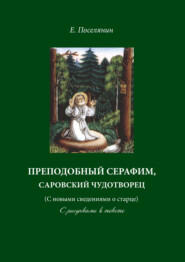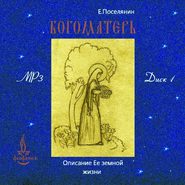По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На небеси и на земли… Чувства и думы мирянина
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И свет засиял над темной землей. И новую песнь – песнь свободы и отрады – запела тогда земля: Бог среди людей, люди со своим Богом…
Мы созданы для того, чтоб чувствовать Его, славить Его, жить для Него и в Нем; и вне Его, счастья, – истинного, верного и спокойного счастья, – нет и не может быть.
Хиреет растение, до которого не доходят лучи солнца. Страдает душа, которая не видит Бога, в которой неудовлетворенною остается присущая ей неизбежная жажда Бога.
Жажда Бога…
Кажется, редко когда эта жажда была так сильна, как в наши дни.
Мы испробовали всего. Кричали о счастье и глубоком удовлетворении, какие дают человеку знания. Но кто вместил в себя всю полноту их?.. И человечество стоит перед великими тайнами и загадками природы, человека, его бытия и его души.
Искали счастья в широком служении самим себе, в удовлетворении личных запросов, в омуте страстей. Но, чем больше ублажали себя, тем сильнейший огонь жажды жег душу.
Куда ни бросались, за что ни брались, – все чувствовали там, внутри себя: «Не то, не то»…
Удовлетворения, быть может, спокойствия не узнает душа, не явится утешительное сознание, что мы исполняем свое предназначение, пока мы не поклонимся живому Богу и не устроим свою жизнь так, чтобы служить Ему.
Что мешает человеку преклониться пред Богом, признать Его? Что заставляет человека как бы отпихивать от себя ту веру в Бога, которая просится в его сердце?
Гордость!
Я слышал раз спор одного верующего человека с его молодым, блестяще одаренным родственником, которого гордость ума отшатнула от Бога. А в отрочестве он был тепло веровавшим. Убеждения его собеседника как-то раздражительно действовали на него. Тот начал говорить о том, как ужасно, если Бог существует, если Христос был воплотившийся Бог, пришедший для нашего спасения и такою ценою давший его нам: как ужасно тогда отвертываться от Бога Христа и какое неблагородство оказывать Ему за все такое равнодушие.
– А я, – с каким-то озлоблением воскликнул другой, – считаю неблагородным те характеры, которым непременно надо какой-нибудь кумир, чтобы пред ним преклоняться. Это черта раба – иметь что-нибудь, что можно считать выше себя, и пред этим благоговеть. Я – свободен.
– Это черта души, это вложено в нас, как вложена потребность дышать и питаться, – эта жажда найти что-нибудь высокое и поклоняться ему. Кто не поклоняется высокому, тот чтит низкое. Люди, считающие себя свободными от Бога, создают себе низменные кумиры…
А как раз страсти трепали душу этого молодого богоборца, и эта беспокойная душа преклоняется пред живыми кумирами…
Нет! Жажду Бога нельзя в себе истребить. Ее можно заглушать, и тогда измученная душа бросится к чему-нибудь иному, в чем найдет больше муки, чем удовлетворения. И эти муки будут тем острее, чем по складу своему выше, и поэтому способнее на религиозные переживания, душа.
Величайший трагизм заключается в этой жизни вне Бога той души, которая в Нем не найдет свое величайшее счастье, которую ждет с раскрытыми объятиями Христос и которая от Христа упорно отворачивается.
У нас так распространились самоубийства среди молодежи!.. И далеко не одно какое-нибудь потрясшее жизнь горе или безвыходная нужда бывают причиною этих самоубийств.
«Незачем жить…» «Тоска…» «Ни в чем не нахожу удовлетворения…» «Прошу никого не винить в моей смерти…»
Все это – ведь последний крик существа, которое принесло с собой глубокие запросы и удовлетворения не нашло.
И, быть может, в последнее мгновение их тяжелой, роковой жизни, об одном жалеют они, – что не дошли до того Христа, которого отняли у них обстоятельства их жизни, гипноз окружающего их неверия, боязнь предаться счастливому порыву, который бросил бы их к ногам Христа…
Есть вера, есть видение. Признают Бога в конце концов все. В будущем веке, очевидно, не будет места отрицанию. Но какой ужас увидать пред собою несомненным, неопровержимым, торжествующим – то, что отрицал, над чем, быть может, глумился!
Люди, сами веровавшие и имевшие близких и дорогих для них людей, которые отрицали, – знают, как мало людей, спокойно отрицающих. Самое озлобление неверия показывает в человеке отрицающем, глубину и неистребимость веры. Он на себя сердится. Он то и дело оглядывается пугливо и беспокойно на область веры.
«Что мне языческий божок!.. Я пред ним спокоен!..» А вот пред Богом христианским – как смущены и злобны отрицающие Его!
Все чувствуют, что есть Бог, и что нужно и важно поклоняться Ему. Чувствует и культурный человек, и простолюдин.
Писатель Короленко был чрезвычайно поражен, когда в Сибири, во время перегона с одной станции на другую, ямщик обратился к нему с вопросом, есть ли Бог, и потом задумчиво добавил: «Хоть малый-махонький, а все над миром делам-те правит…»
Зачтет ли Христос, как засчитывает людям благия намерения вместо дел и слезы о грехах вместо добродетелей, – зачтет ли Он жажду веры в Бога и все муки отрицания – за веру?..
Есть минута, когда душа умирающего человека еще в теле, а завеса между двумя мирами, землей и небом, уже приподнята… И вот тут эта душа, еще в земном теле, прозрев то, к чему стремилась и от чего отвертывалась, быть может, в восторге преклонится пред гонимым раньше Богом и произнесет Его торжественное исповедание, во спасение свое…
Когда спустится на землю священная ночь – ночь под Рождество, и высыпавшие на небе звезды заговорят о той единственной звезде, что привела волхвов к пещере Вифлеема; когда в церквах, полных народа, сияющих огнями, раздадутся тихие напевы о чудном Младенце, пришедшем к людям, – тогда всею душою прильните к яслям невместимого Бога!
Вспомните о том, как первыми призвал Он к этим яслям пастухов, стерегущих стада, и ради этого воспоминания хоть на тот день станьте просты и незлобивы душою, как дети и «пастыри» Вифлеема. Забудьте все, что осложняет и портит вашу жизнь: все происки и расчеты тщеславия, себялюбия. Сделайтесь пред Младенцем Христом сами собою. Забыв хоть на время землю, склонитесь пред тем холмиком соломы, на котором лежит Он, «свивающий небеса» и изменяющий века, на котором согревает Его усердное дыхание вола и осла, служащих своему Творцу, и разом восстановите в душе вашей те минуты счастья, которые вам давал Он, тихий, сладчайший Иисус, ради вас принявший на Себя «зрак раба» и убожество. Благодарите Его за великий, за чудный, за спасительный дар веры. И тут молите Его за тех, кто жаждет Его, но не познал еще Его и стоит вдали от Него в унылом одиночестве.
За них всею душою помолитесь этому Младенцу, потому что пред детьми затихает вражда, смиряется отчуждение в самых больных сердцах.
Молитесь Ему, чтобы нежной Божественной рукой Он коснулся души их, чтобы дал им то живое ощущение Своего бытия, которое в вас было всегда живо, чтобы Он шепнул им: «Прими Меня, Младенца Иисуса, и не покидай Меня, ибо ты Мне нужен…» И пусть знают друг друга тосковавший по Боге и обретший Бога человек и Бог, просящий человека, чтоб он отдал Ему свое сердце… Войдет в это сердце, широко распахнувшееся пред Ним, Младенец, и будет радость, и будет счастье…
Тебя ждут унывающие люди, исстрадавшиеся без Тебя, отрицающие, но проклявшие в душе отрицание.
Откройся, явись им, как Савлу, Тебя гнавшему. Призови Сам, как призывал учеников Своих.
И пусть у Твоих яслей станем мы вновь детьми и сойдет к нам юность и свежесть чудной духовной весны!
«Новое счастье»
Люди любят символы, устанавливают грани, которые, по их мнению, разграничивают события, хотя время неделимо, как неделима громадная река, несущая в океан свои неисчислимые, не поддающиеся учету воды.
Так и время…
События сплетаются одно с другим. День и ночь, ночь и день, и день за днем текут, текут, текут в вечность, не разделяемую никакими гранями. И эти грани установило только наше воображение.
В трезвые минуты доказываешь себе, что никакого нового года нет, что решительно никакого значения не имеет, отбили ли часы в ночь с 31 декабря на 1 января двенадцать ударов, что первый день во всем равен и одинаков со вторым.
И вот, однако ж, сила внушенных привычных идей такова, что придаешь какое-то особое значение этой полуночи и с наступлением ее ждешь к себе «нового счастья», какой-то обновленной, лучшей жизни.
В больших городах часто теперь собираются встречать Новый Год в легкомысленной обстановке ресторанов, среди разношерстной, незнакомой между собою толпы. Как мало тут места для задушевных дум и чувств, навеваемых этой полуночью!..
Совсем иначе чувствуешь себя в кругу семьи, среди близких, дорогих людей.
Давно отслужен новогодний молебен, но в зале не убирают еще покрытого белого скатертью стола, с расставленными на нем несколькими старинными фамильными иконами. В тяжелых подсвечниках пред ними стоят толстые восковые свечи, продолжающие гореть и после молебна. Над этим уголком семейной веры точно застыли слова великого обетования, прочитанные за молебном:
«Дух Господень на Мне. Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелить сокрушенных сердцем, проповедывать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на отраду, проповедывать лето Господе благоприятное».
Вот слова, вещающие вечно-обновляющееся счастье; вот слова, укрепясь которыми, можно смело смотреть вперед, не боясь никаких бурь житейских, с легким сердцем укрываясь от них в ладью Христову…
Не хочешь, не можешь в последние часы пред полуночью ни за что приняться, бродишь по дому, присматриваешься к знакомым старым вещам, среди которых вырос, которые были уже стары до твоего рождения и переживут тебя, презирая время… Вспоминаешь прошлое, переживаешь последний год. Вглядываешься в портреты ушедших, утраченных навсегда людей, унесенных смертью, и таких людей, которые, быть может, живут, но с которыми уже не встретишься на земле.
И считаешь, считаешь, поникнув головой, утраты, разочарования, обманы жизни, несбывшиеся думы, разбитые мечты… А время идет все ближе к полуночи…
И как хочется в эти минуты собрать вокруг себя всех, которых в жизни любил, поднять умерших, созвать тех, с которыми жизнь разделила. И чувствуешь до боли, как полнее могла бы быть жизнь.
Кого-то нет, кого-то жаль,