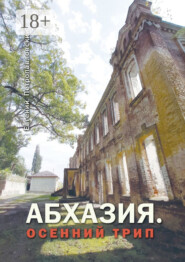По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кровавые снега Суоми. Повесть о Зимней войне
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Суоми, только в нас живёт твоё спасенье,
Лишь мы трудящимся несём освобожденье,
Мы дышим с родиной дыханием одним
И никогда её врагу не отдадим.
Хранят спокойствие твердыни Ленинграда,
Родного растоптать мы не позволим сада,
И то, что в целый мир, в эфир несла волна,
Что Молотов сказал, сказала вся страна!
– Да, так оно и было, – подтвердил старик. – Думаю, поэт не сомневался – как и все, кто находились тогда рядом со мной, – что мы несём финскому народу освобождение. Это немного погодя закралось сомнение. Хотя какое там сомнение – каждому стало ясно, что не горят желанием финны встречать нас хлебом-солью. До такой степени не горят, что готовы животы свои положить, обороняясь от освободителей. А мы-то все были молодые, наивные: таким легко вставить в головы что угодно. Не каждому поумнеть довелось, многие в землю легли, вот в чём беда.
…Интернет щедр на информацию – после ссылок на Всеволода Рождественского поисковик набросал мне ещё целый ворох ссылок на стихи о Зимней войне, уже других авторов, публиковавшиеся, так сказать, нон-стоп по ходу боевых действий. Я зачитал вслух первое попавшееся – это было написанное 1 декабря 1939 года стихотворение Николая Волкова:
Артиллерийский вспыхнул залп —
Смертей полёт косой.
Нам враг лишь спину показал,
Бросая к чёрту всё.
И мы вослед пошли за ним
На северо-восток.
Он, что бобов, насеял мин
По сторонам дорог.
Так мы за ним без боя шли
Всю ночь и снова день
При чёрных факелах вдали
Зажжённых деревень.
Ушёл в укрепрайон, в свой дом,
В свой гроб среди лесов,
Но мы прорвёмся, мы пройдём,
Ломая к чёрту всё.
– Всё верно, – грустно кивнул мой собеседник. – Именно такой настрой царил среди красноармейцев: мы не сомневались, что прорвёмся, сокрушим. Все безусые пацаны, что ты хочешь. Молодые смерти не боятся, пока её вдосталь не нахлебаются. Нам со школы героизм внушали, гренаду эту, будь она неладна…
***
– Мы тогда не знали, что творилось на юге, на Карельском перешейке, – продолжал старик свой рассказ. – Нас бросили на помощь 163-й стрелковой дивизии, окружённой в районе местечка Суомуссалми. Это немного к югу от Лапландии… Ни лыж не было, ни санок: топали по снегу, делая всего по нескольку километров в день. От мороза не чуяли рук и ног. А по лесу вдоль наших флангов скользили в темноте полярной ночи финские лыжники. Бегали они на лыжах без помощи палок, так что руки оставались свободными для стрельбы. Вообще у белофиннов всё было поставлено на лыжи: пулемёты, обозные повозки, пушечки лёгкие. Без звука, невидимые в своих маскхалатах, вдруг выскакивали они из-за деревьев – поливали нас автоматным огнём и мигом исчезали, ровно привидения. Мы палили потом по лесу, да чаще без толку… А своих раненых они не оставляли: если забрать не могли, то сами достреливали. Только это редко случалось. Зато для наших красноармейцев ранение означало верную смерть: если не погибнешь от потери крови, то замёрзнешь. Ведь вывезти человека в тыл, чтобы медицинскую помощь ему оказать – такой возможности тогда не имелось. Мы, хоть и оболваненные были политзанятиями, и то возмущались головотяпством командования: до чего же это надо не думать о людях, чтобы не позаботиться о тёплом обмундировании для личного состава! По сей день в уме не укладывается, что в боях с врагом у нас погибло намного меньше народа, чем от мороза! Я, например, так мёрз – просто никаких сил не было терпеть… Но повезло: случился бой, когда половина моей роты полегла, и убили мы сразу пятерых белофиннов – я поспел у одного из них позаимствовать тулуп и валенки. Тулупчик, на груди пробитый пулей, подштопал, кровь просушил. И валенки как раз впору оказались…
Мысль моего собеседника часто перескакивала с одного на другое. К тому же прошли годы, и сегодня передать его воспоминания в той последовательности, в какой мне довелось их слышать – задача невыполнимая. Но здесь я стараюсь уложить повествование старика в хронологические рамки, более или менее соответствующие происходившим событиям:
– А до Суомуссалми мы не дошли километров десять, когда стало известно: 163-я дивизия больше не нуждается в нашей помощи, поскольку она разгромлена, а комдиву Зеленцову с остатками личного состава удалось прорваться назад, на советскую территорию… Зато в начале января финны принялись за нас: взорвав мост на границе, они отрезали дивизию от тылов и стали громить её с флангов. Это было нетрудно, поскольку мы растянулись вдоль дороги на десятки километров. Тогда комдив Виноградов приказал подорвать всю технику и пробиваться назад, к своим. Легко сказать… Нас били как куропаток. Из лесу налетали егеря и выкашивали подразделение за подразделением. А то подкрадывались к спящим – и без единого звука вырезали всех своими ножами с кривыми лезвиями: такие тесаки финны называют «пуукко», это их национальное оружие. Но страшнее всего были снайперы. У нас их окрестили «кукушками» за то, что они устраивали на деревьях гамаки наподобие гнёзд, в которых могли сидеть сутками, поджидая удобного момента для стрельбы. Затаится такой стрелок и кладёт наших бойцов одного за другим. Потом слезет с дерева, встанет на свои короткие лыжи из карельской берёзы – и поминай как звали… Ну, это мы все представляли себе «кукушек» таким образом. А спустя время мне разъяснили, что на самом деле легенду про гнёзда и гамаки на ветках распускала вражеская разведка – чтобы наш боевой дух подорвать. Ведь, в самом деле, финский боец мог оказаться на дереве только с целью наблюдения, но никак не для того, чтобы находиться в засаде. Попробуй-ка зимой залезть на ёлку, просидеть на ней несколько часов с винтовкой, а потом попасть из неё хоть во что-нибудь. Более неудачного места для этого вообще трудно придумать: тебя демаскирует первый же выстрел, а быстро сменить позицию невозможно. Потому финские снайперы чаще прятались в сугробах или за деревьями, однако на земле… Но легенда очень действовала: красноармейцы, двигаясь по лесу, постоянно озирались на деревья. Одну «кукушку» при мне подстрелили – как раз в сугробе, за пнём была у неё лёжка. Оказалась молодой девчонкой. В плен, правда, не далась: пока мы добежали, она успела перерезать себе сонную артерию. К слову говоря, женщины в финской армии были не редкость…
***
– В общем, в январе нам стало уже не до героических песен, – признался он. – И тем более не до бодрых частушек наподобие тех, что распространяли на специально отпечатанных боевых листках:
Всюду видно, всюду слышно —
Красных армий выстрелы.
Белофиннам будет крышка,
Будет гибель быстрая.
Вот вам, белые, расплата,
С нею враг давно знаком.
Белофиннов бей гранатой,
Пулей меткой и штыком.
Белых бить мы не устанем,
Нам отчизна дорога.
Знай, родной товарищ Сталин,
Без пощады бьём врага.
Приготовили штыки
Наши красные полки,
Полки несокрушимые
Клима Ворошилова.
– Странно, – удивился я. – Если положение на фронте печальное, откуда у народа брались силы сочинять частушки…
– Да это не народные, – пояснил он. – Писатели старались для пропаганды. Видно, им задание спустили сверху. Был такой поэт Александр Прокофьев, его в ту пору часто печатали в газетах – вот по частушечной части в основном он и старался.
…Позже я поискал в Интернете – действительно нашёл немало боевитых прокофьевских «кричалок» в таком духе:
Эх вы, финские вояки,
Захотели с нами драки,
Что ж, узнайте поскорей
Силу наших батарей!
Будет белый бит повсюду,
Нам походы – дальние,
Белофинны не забудут
Силу Красной армии.
Белофинн в лесах таится,
Видно, – доля не легка.
Эх, боится, эх, боится
Белый красного штыка.
Чтоб победа стала ближе —
Звеньями, отрядами
Настигай врага на лыжах,
Бей его, проклятого!
Становись, товарищ, в круг!
Политрук – нам лучший друг.
Нам – беречь его в бою,
Защищать, как жизнь свою!
Все за родину свою
Будем храбрыми в бою,
Лишь мы трудящимся несём освобожденье,
Мы дышим с родиной дыханием одним
И никогда её врагу не отдадим.
Хранят спокойствие твердыни Ленинграда,
Родного растоптать мы не позволим сада,
И то, что в целый мир, в эфир несла волна,
Что Молотов сказал, сказала вся страна!
– Да, так оно и было, – подтвердил старик. – Думаю, поэт не сомневался – как и все, кто находились тогда рядом со мной, – что мы несём финскому народу освобождение. Это немного погодя закралось сомнение. Хотя какое там сомнение – каждому стало ясно, что не горят желанием финны встречать нас хлебом-солью. До такой степени не горят, что готовы животы свои положить, обороняясь от освободителей. А мы-то все были молодые, наивные: таким легко вставить в головы что угодно. Не каждому поумнеть довелось, многие в землю легли, вот в чём беда.
…Интернет щедр на информацию – после ссылок на Всеволода Рождественского поисковик набросал мне ещё целый ворох ссылок на стихи о Зимней войне, уже других авторов, публиковавшиеся, так сказать, нон-стоп по ходу боевых действий. Я зачитал вслух первое попавшееся – это было написанное 1 декабря 1939 года стихотворение Николая Волкова:
Артиллерийский вспыхнул залп —
Смертей полёт косой.
Нам враг лишь спину показал,
Бросая к чёрту всё.
И мы вослед пошли за ним
На северо-восток.
Он, что бобов, насеял мин
По сторонам дорог.
Так мы за ним без боя шли
Всю ночь и снова день
При чёрных факелах вдали
Зажжённых деревень.
Ушёл в укрепрайон, в свой дом,
В свой гроб среди лесов,
Но мы прорвёмся, мы пройдём,
Ломая к чёрту всё.
– Всё верно, – грустно кивнул мой собеседник. – Именно такой настрой царил среди красноармейцев: мы не сомневались, что прорвёмся, сокрушим. Все безусые пацаны, что ты хочешь. Молодые смерти не боятся, пока её вдосталь не нахлебаются. Нам со школы героизм внушали, гренаду эту, будь она неладна…
***
– Мы тогда не знали, что творилось на юге, на Карельском перешейке, – продолжал старик свой рассказ. – Нас бросили на помощь 163-й стрелковой дивизии, окружённой в районе местечка Суомуссалми. Это немного к югу от Лапландии… Ни лыж не было, ни санок: топали по снегу, делая всего по нескольку километров в день. От мороза не чуяли рук и ног. А по лесу вдоль наших флангов скользили в темноте полярной ночи финские лыжники. Бегали они на лыжах без помощи палок, так что руки оставались свободными для стрельбы. Вообще у белофиннов всё было поставлено на лыжи: пулемёты, обозные повозки, пушечки лёгкие. Без звука, невидимые в своих маскхалатах, вдруг выскакивали они из-за деревьев – поливали нас автоматным огнём и мигом исчезали, ровно привидения. Мы палили потом по лесу, да чаще без толку… А своих раненых они не оставляли: если забрать не могли, то сами достреливали. Только это редко случалось. Зато для наших красноармейцев ранение означало верную смерть: если не погибнешь от потери крови, то замёрзнешь. Ведь вывезти человека в тыл, чтобы медицинскую помощь ему оказать – такой возможности тогда не имелось. Мы, хоть и оболваненные были политзанятиями, и то возмущались головотяпством командования: до чего же это надо не думать о людях, чтобы не позаботиться о тёплом обмундировании для личного состава! По сей день в уме не укладывается, что в боях с врагом у нас погибло намного меньше народа, чем от мороза! Я, например, так мёрз – просто никаких сил не было терпеть… Но повезло: случился бой, когда половина моей роты полегла, и убили мы сразу пятерых белофиннов – я поспел у одного из них позаимствовать тулуп и валенки. Тулупчик, на груди пробитый пулей, подштопал, кровь просушил. И валенки как раз впору оказались…
Мысль моего собеседника часто перескакивала с одного на другое. К тому же прошли годы, и сегодня передать его воспоминания в той последовательности, в какой мне довелось их слышать – задача невыполнимая. Но здесь я стараюсь уложить повествование старика в хронологические рамки, более или менее соответствующие происходившим событиям:
– А до Суомуссалми мы не дошли километров десять, когда стало известно: 163-я дивизия больше не нуждается в нашей помощи, поскольку она разгромлена, а комдиву Зеленцову с остатками личного состава удалось прорваться назад, на советскую территорию… Зато в начале января финны принялись за нас: взорвав мост на границе, они отрезали дивизию от тылов и стали громить её с флангов. Это было нетрудно, поскольку мы растянулись вдоль дороги на десятки километров. Тогда комдив Виноградов приказал подорвать всю технику и пробиваться назад, к своим. Легко сказать… Нас били как куропаток. Из лесу налетали егеря и выкашивали подразделение за подразделением. А то подкрадывались к спящим – и без единого звука вырезали всех своими ножами с кривыми лезвиями: такие тесаки финны называют «пуукко», это их национальное оружие. Но страшнее всего были снайперы. У нас их окрестили «кукушками» за то, что они устраивали на деревьях гамаки наподобие гнёзд, в которых могли сидеть сутками, поджидая удобного момента для стрельбы. Затаится такой стрелок и кладёт наших бойцов одного за другим. Потом слезет с дерева, встанет на свои короткие лыжи из карельской берёзы – и поминай как звали… Ну, это мы все представляли себе «кукушек» таким образом. А спустя время мне разъяснили, что на самом деле легенду про гнёзда и гамаки на ветках распускала вражеская разведка – чтобы наш боевой дух подорвать. Ведь, в самом деле, финский боец мог оказаться на дереве только с целью наблюдения, но никак не для того, чтобы находиться в засаде. Попробуй-ка зимой залезть на ёлку, просидеть на ней несколько часов с винтовкой, а потом попасть из неё хоть во что-нибудь. Более неудачного места для этого вообще трудно придумать: тебя демаскирует первый же выстрел, а быстро сменить позицию невозможно. Потому финские снайперы чаще прятались в сугробах или за деревьями, однако на земле… Но легенда очень действовала: красноармейцы, двигаясь по лесу, постоянно озирались на деревья. Одну «кукушку» при мне подстрелили – как раз в сугробе, за пнём была у неё лёжка. Оказалась молодой девчонкой. В плен, правда, не далась: пока мы добежали, она успела перерезать себе сонную артерию. К слову говоря, женщины в финской армии были не редкость…
***
– В общем, в январе нам стало уже не до героических песен, – признался он. – И тем более не до бодрых частушек наподобие тех, что распространяли на специально отпечатанных боевых листках:
Всюду видно, всюду слышно —
Красных армий выстрелы.
Белофиннам будет крышка,
Будет гибель быстрая.
Вот вам, белые, расплата,
С нею враг давно знаком.
Белофиннов бей гранатой,
Пулей меткой и штыком.
Белых бить мы не устанем,
Нам отчизна дорога.
Знай, родной товарищ Сталин,
Без пощады бьём врага.
Приготовили штыки
Наши красные полки,
Полки несокрушимые
Клима Ворошилова.
– Странно, – удивился я. – Если положение на фронте печальное, откуда у народа брались силы сочинять частушки…
– Да это не народные, – пояснил он. – Писатели старались для пропаганды. Видно, им задание спустили сверху. Был такой поэт Александр Прокофьев, его в ту пору часто печатали в газетах – вот по частушечной части в основном он и старался.
…Позже я поискал в Интернете – действительно нашёл немало боевитых прокофьевских «кричалок» в таком духе:
Эх вы, финские вояки,
Захотели с нами драки,
Что ж, узнайте поскорей
Силу наших батарей!
Будет белый бит повсюду,
Нам походы – дальние,
Белофинны не забудут
Силу Красной армии.
Белофинн в лесах таится,
Видно, – доля не легка.
Эх, боится, эх, боится
Белый красного штыка.
Чтоб победа стала ближе —
Звеньями, отрядами
Настигай врага на лыжах,
Бей его, проклятого!
Становись, товарищ, в круг!
Политрук – нам лучший друг.
Нам – беречь его в бою,
Защищать, как жизнь свою!
Все за родину свою
Будем храбрыми в бою,