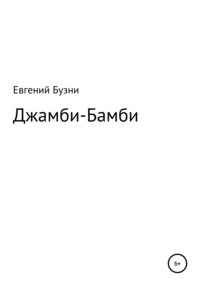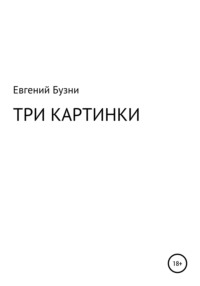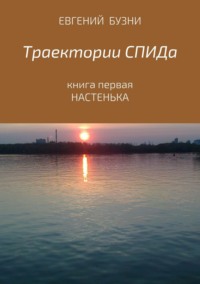Литературное досье Николая Островского
"Рассказывая в этой книге о своей жизни, я ведь не думал публиковать книгу. Я писал её для истории молодёжных организаций (Истомол), о гражданской войне, о создании рабочих организаций, о возникновении комсомола на Украине".
А в своей статье "Моя работа над повестью "Как закалялась сталь" Островский о работе для "ИСТМОЛа" пишет несколько иначе:
"У меня давно было желание записать события, свидетелем, а иногда и участником которых я был. Но занятый организационной работой в комсомоле, не находил для этого времени, к тому же не решался браться за столь ответственную работу.
Единственная проба, и то не литературного характера, а просто запись фактов, была коллективная работа с товарищем, написанная по предложению Истомола Украины. Я никогда раньше не писал, и повесть – это мой первый труд. Но готовился я к работе несколько лет. Болезнь давала мне много свободного времени, которого я раньше совершенно не имел. И я жадно и ненасытно утолял свой голод на художественную книгу. Нет худа без добра".
Действительно, в 1921 г. при ЦК ВЛКСМ была создана комиссия по изучению истории ВЛКСМ и юношеского движения России (потом СССР) ИСТМОЛ, имевшая отделения в республиках, в том числе и на Украине. Комиссия просуществовала до начала тридцатых годов. И вполне возможно допустить, что Островский когда-то с кем-то записывал исторические факты для этой организации. Более того, вполне возможно, что материалы отчётов о съездах и конференциях РКСМ 1918-1928 гг., опубликованные ИСТМОЛом, были использованы Островским в романе при описании сцен борьбы с троцкистской оппозицией. Но согласиться с тем, что книга писалась им первоначально, как книга для ИСТМОЛа, а не для публикации, никак нельзя. Скорее всего, это говорилось лишь для американского журналиста, для которого такой ответ был в то время наиболее желательным.
Все письма Островского того времени говорят о его желании написать книгу, которая бы понравилась и была опубликована.
В июне 1931 г. он пишет Жигиревой очередное письмо, сетуя на её молчание:
"У нас всё по-старому. Я продолжаю писать начатую мною книгу, о которой я в прошлом письме к тебе рассказывал. Я бы хотел, чтобы ты прочла хотя бы отрывки из написанного. Я могу тебе их прислать. Они будут напечатаны на машинке, и их легко читать. Я хотел бы знать твой отзыв, но ты ведь не отвечаешь мне".
Но ещё один вопрос по поводу рождения страниц романа Островского неожиданно возникает, когда мы читаем письмо Розе Ляхович, написанное 14 июня 1931 г.
"Милая Роза!
Только что прочли твое письмо. Сейчас же отвечаю. Рукопись в Новороссийск не посылай.
Если Петя вернётся в ближайшие 10—12 дней, то оставь копию у него, пусть с ней ознакомится. Позавчера я послал Петру рукопись 3-й главы для перепечатывания на машинке; я, видишь, его тоже мобилизовал на это дело. Я, конечно, знаю, что ты познакомишься с ней еще до возвращения Петра в Харьков. Она написана в блокноте хорошо и отчетливо, чернилами. В Москве такой кризис на бумагу, как и у вас, дорогие товарищи.
В ближайшую неделю мне принесут перепечатанную на машинке главу из второй части книги, охватывающей 1921 год (киевский период, борьба комсомольской организации с разрухой и бандитизмом), и все перепечатанное на машинке будет передано тов. Феденеву, старому большевику, ты, наверное, слыхала о нем, и он познакомит с отрывками своего друга-редактора. Там и будет дана оценка качеству продукции.
Я вполне с тобой согласен, что в Сочи было многое упущено, но что об этом говорить.
В отношении того, почему я посылаю Мите Хоруженко копии, отвечаю: я дал ему слово познакомить его с работой, и он напомнил мне о данном слове, и я считаю необходимым выполнить его, но на это есть время, и тебе, конечно, посылать не надо.
Очень жаль, что Пети нет. Надеюсь, что он скоро возвратится…
Я вспоминаю данное мне Паньковым обещание всемерно помочь в отношении начатой работы, но, знаешь, Роза, откровенно тебе скажу: у меня не лежит сердце
к этому высокообразованному европейцу. Хрен с ним! Вообще, есть люди, которые больше языками треплются, чем хотят сделать, и в то же время, когда их никто не заставляет, трепаться зря".
Из этого письма мы получаем несколько ответов на возникавшие ранее вопросы. Но с ответами появляются и новые неизвестные нашей задачи. Во-первых, наконец-то, возникает фамилия Феденёва в связи с книгой. Оказывается, ему будут отданы первые отрывки книги, с которыми он познакомит "своего друга-редактора". Стало быть, именно Феденёв мог быть одним из звеньев в цепочке Островский – роман – издательство. Он мог предложить своему другу-редактору познакомиться с творчеством молодого комсомольского работника, прикованного болезнью к постели. Учитывая партийный авторитет Феденёва и неординарную ситуацию с больным, но жаждущим что-то делать молодым человеком, редактор мог согласиться посмотреть литературные пробы Островского и попросить при этом следовать определённым правилам подготовки рукописи, то есть печатать материал на одной стороне листа с нужными интервалами и полями.
В этом нет абсолютно ничего крамольного, всё было бы естественным, кроме одного – почему Феденёв об этом не пишет в своих воспоминаниях, как, впрочем, не упоминают об этом ни Раиса Порфирьевна, ни Пётр Новиков, ни сам Островский.
Ещё один вопрос снимает почти это письмо. Это вопрос о Панькове, который некогда предложил свою помощь. По всей вероятности, Островский думал обратиться к нему с рукописью, но как видно из письма, не решился сделать этого, поскольку "не лежит сердце к этому высокообразованному европейцу", и что мне кажется не менее важным, Островский отнёс Панькова к людям, которые "больше языками треплются, чем хотят сделать", тогда как сам Островский всегда был человеком дела и любил себе подобных.
Любопытна и фраза Островского, адресованная к Ляхович: "Я вполне с тобой согласен, что в Сочи многое упущено, но что об этом говорить". Говоря об упущенном в Сочи, Островский, конечно, имел в виду, что уже там он мог начать писать книгу, в чём ему помогла бы приезжавшая туда Ляхович. То есть из этого можно предположить, что мысль о написании книги была ещё в Сочи, но осуществилась по приезде в Москву, да и то не сразу. Однако это лишь слабое предположение, так как никакого подтверждения тому пока нет.
Но самый главный вопрос, который рождает это письмо к Ляхович, связан с другим сообщением Островского:
"В ближайшую неделю мне принесут перепечатанную на машинке главу из второй части книги, охватывающей 1921 год (киевский период, борьба комсомольской организации с разрухой и бандитизмом)…"
Как так? Ещё не написана первая часть книги. Как явствует из этого же письма, написана только её третья глава, а уже пишется глава второй части. Почему?
Я сам писатель. Есть у меня и роман в трёх книгах. Но когда я писал первую книгу, я совершенно не предполагал, что будут ещё две. Так получилось, что, завершив описывать определённый период жизни моей героини, я понял, что он не поместился в одну книгу. Пришлось писать вторую, а затем и третью. Теперь думаю о четвёртой. У Островского же получилось так, что, не написав и половины первой части книги, он уже знал, что будет во второй.
Собственно говоря, такое бывает. Некоторые писатели составляют план книги и следуют ему чётко. Но это, я бы сказал, высший пилотаж. Надо определённо знать всё, о чём собираешься написать. Но ведь у Островского, как мы видим из писем, первоначальная задача была дать лишь отрывки для просмотра. Может быть, как раз по этой причине он решил написать главы из первой части и одну главу из предполагавшейся им второй. Это любопытная деталь, о которой почему-то никто из добровольных секретарей Островского не упоминал. Вот что и удивляет больше всего, а не сам факт написания главы заранее. Вторую часть книги Островский фактически начал писать чуть ли не через полтора года, когда первая часть была почти готова к выходу из печати. Во всяком случае, в ноябре литературный секретарь Островского Галина Алексеева получила из Сочи письмо от Островского, в котором он писал ей с любовью:
"Милая Галя!
Привет в день 15-го Октября. Моя жизнь – это работа над второй книгой. Перешёл на "ночную смену", засыпаю с рассветом. Ночью тихо, ни звука. Бегут, как в киноплёнке, события, и рисуются образы и картины. Павка Корчагин уже разгромил, глупый, своё чувство к Рите и, посланный на стройку дороги, ведёт отчаянную борьбу за дрова, в метели, в снегу. Злобно веет остервенелый ветер, кидает в лицо комья снега, а вокруг бродит неслышным шагом банда Орлика. Вот картина стройки.
Книга первая ещё в печати. Будет, наверное, к 6-му ноябрю".
Любопытно краткое лирическое описание содержания первых глав второй части книги. И никакого упоминания о том, что эта глава фактически уже писалась в июне 1931 года. Не упоминает об этом Островский и в следующем письме Новиковым, написанном 28 ноября 1932 г.
"Работаю, как добросовестная лошадь. Пишу по ночам, когда тихо и никто и ничто не мешает. Пишу сам, потом переписывают. Выжимаю на работу всё наличие физических сил. Здоровье всё же лучше, чем было в мае и июне. Я пришлю тебе отпечатанные первые две главы. Читай и критикуй".
Куда же девалось написанное первый раз начало второй части? Пока неясно. Между тем Островский пишет следующие главы романа, не будучи уверенным в качестве своего труда. Он пишет в Ленинград Жигиревой 28 июня 1931 г.:
"Насчёт наших друзей. Об Ольге Войцеховской не имею никаких сведений, если ты возобновила с ней связь, то сообщи мне, она, меня интересует со стороны редакционного порядка. Дело идёт о моей работе.
О Панькове тоже ни звука! Этот парень мне очень нужен был бы сейчас. Когда-то он обещал мне оказывать всемерное содействие как редактор в отношении начатой работы, но как говорится, доброе слово и то хорошо. Откровенно говоря только тебе, Шурочка, эти высокообразованные ребята чересчур «европейцы», и у нас с ними контакт не особенно плотный. Нет рабочего товарищества.
В отношении Розочки, она не замужем, работает. А остальные ребята – по-старому. Навёрстывают третий решающий, и никаких гвоздей.
Шура, напиши мне конкретно – имеешь ли ты свободное время и желание, чтобы познакомиться с некоторыми отрывками моей работы, если да, то я тебе их сгруппирую и пришлю. Может, у тебя среди партийцев есть кто-нибудь вроде редакторов или что-нибудь в этом роде, – так дала бы им почитать, что они на этот счёт выскажутся.
В общем, по этому вопросу я тебе буду писать в дальнейшем.
Друзей у меня в Москве очень мало, вернее, два – старый большевик и другой – молодой парень".
Под большевиком Островский имеет в виду Феденёва, который теперь действительно часто его навещает, а молодой парень – это, конечно, Миша Финкельштейн. В письме вспоминается Ольга Войцеховская, работавшая переводчицей Украинской Академии Наук. И опять говорится о Панькове, как ненадёжном помощнике.
Островский работает упорно, однако этому мешает, помимо других объективных трудностей, состояние погоды. 27 июля Островский информирует в письме Ляхович о прогрессе с романом и жалуется на погоду:
"Мною закончена пятая глава и отдана в перепечатку. Четвёртая глава тоже перепечатывается. В настоящий период производство прекращено по техническим причинам. В Москве очень жарко, и никакими силами нельзя сагитировать секретарей взяться за карандаш. Они едва дышат".
Но вот в одном из писем Островский сообщает название редакции, в которой читают рукопись первых глав. Об этом и о трудностях в работе он сообщает Новикову в письме от 11 августа 1931 г.:
"Ты пишешь, что в моей работе есть сухость и скупость на лирику. Это верно. Это недостаток. Часть написанного просматривалась редактором «Красной нови». К моему удивлению и, скажем, просто удовлетворению, оценка в общем небезнадёжна. А скупость и сухость поставлены на вид.
Петя, невозможно в письме тебе рассказать все те страдания, с которыми связано моё писание. Никаких черновиков. Почти никаких поправок. Разволнуюсь до
края, пока усажу обормота писать. И вообрази, что за работа. Не передать. Страшная дрянь попался мне человечишко. Парень ленивый до бесконечности. Целый день пролежит на кровати, но за перо не возьмется. Разве с таким обывателем можно создать художественную ценность? У тебя, говорит, нет сексуальных моментов, нет изюминки. Кто такую книгу читать будет? Разве такому паразиту можно открыть глубину переживания, весь энтузиазм борьбы за перерождение жизни? Нет, нельзя. И это, боюсь, меня угробит, не меня, а мою работу.
Твои слова о жизни вместе, о совместной работе меня взволновали, этого нет и, наверно, не будет. А как бы было хорошо. Мне мой приятель, старый большевик, обещает возможность просмотра М. Горьким написанного мной. Я прошу тебя, дорогой Петя, выслать мне всё, что у тебя готово, чтобы с тем, что у меня есть, передать на суд великому писателю. Насчёт тяжести фраз и некоторой топорности обработки – это верно. Но ведь я не имею возможности даже исправить – Рая целые дни занята, кто видел – в таких условиях писать. Ведь великие мастера переделывали свои вещи 5—6 раз. А для меня это только желание, и что делать – не знаю. Надежда на Розу. Приедет девочка, продвинем работу немножко вперёд. А то за полтора месяца ни одной строчки. Ну, мама устала, ей тяжело: сто двадцать пять повинностей выносит, из которых писание для неё самое тяжелое".
Раскрывается в письме, что первые главы просматривают в первом советском толстом литературном журнале "Красная новь". И, как оказывается, "оценка в общем не безнадёжна". Это первая реакция профессионалов. Так что, Феденёв там имел своего друга– редактора? Или где-то ещё? Ведь в следующем письме Розе Ляхович, написанном тоже в августе Островский говорит уже о другой редакции:
"Розочка!
Очень жалею, что встреча откладывается. Пусть. Лишь бы приехала. Отрывки моей работы спецы читали. Вывод. Первое: пусть продолжает. Второе: скупость лирики. Третье: суровый, лаконичный язык. Четвёртое: избегать окончаний на «вши» и без «который». Дальше. Я сам виноват, что тебе и Пете, людям, по горло загруженным, «нахально» втиснул свою работу. И не могу пенять на черепаший темп. Я боялся вас обидеть, а то забрал бы обратно рукопись, но не решился. Всё, мной написанное, уже перепечатано, остановка за Харьковом. Я потому так ожидаю, что редакция <издательства> «М<олодая> гв<ардия> предлагает прислать на просмотр все шесть написанных глав. Иначе бы я не торопился. Понимаешь, дитя беспризорное?
Ты ни словом не обмолвилась о своем мнении насчёт работы. Из этого – логический вывод: настолько плохо, что и говорить не хочешь. Нет большевистской смелости это сказать. Эх ты, «самокритик»! Я же просил – говори, где плохо, что плохо, ругай, издевайся, язви, подвергай жесточайшей критике все дубовые обороты, всё, что натянуто, неживо, скучно. Крой до корня. А ты что? Молчишь, «зараза». Я тебе этого не могу простить. Это не коммуна, а парламент. Да, дитя, бить за это надо. Я очень сердит.
Коля".
Вот, значит, как. Редакция "Молодой гвардии" просит для просмотра все шесть глав. Стало быть, им уже известно, что шесть глав написано. Значит, вся работа молодого начинающего писателя находится под бдительным контролем издательских работников. Кто это был, столь чутко отнёсшийся к больному ещё не писателю, но стремящемуся всеми силами к тому? Это одна из тайн Мёртвого переулка, в доме которого писалась первая часть романа "Как закалялась сталь".
Раскрыть эту тайну сегодня, как и многие другие, связанные с рождением романа "Как закалялась сталь" сегодня весьма трудно по той причине, что архивы издательства "Молодой гвардии" довоенного периода, к сожалению, погибли во время Великой Отечественной войны. Поэтому у нас даже нет редакторских экземпляров рукописей романа, чтобы понять степень вмешательства редакторов на первом этапе работы.
Однако есть же и другие издательства, которые тоже рассматривали первый вариант романа. От одного из таких издательств в Ленинграде ждёт отзыва Островский, когда пишет нетерпеливо Жигиревой 25 октября 1931 г.:
"Милая Шура!
Вчера получили твоё заказное письмо. Несколько недель тому я написал тебе большое письмо, не знаю, получила ли ты; после этого, правда, не писал. Оправданием тому служит моя ударная работа. Все свои силы я устремил на то, чтобы закончить свой труд, а это в моих условиях очень и очень трудно. Всё же, несмотря ни на что, работа закончена. Написаны все девять глав и отпечатаны на машинке. Сейчас произвожу монтаж книги, и просматриваю последний раз орфографию, и делаю поправки. В ближайшие дни я вышлю тебе посылкой всё напечатанное. Ты ознакомишься прежде всего сама, а потом, милый друг, прошу тебя передать работу квалифицированным мастерам слова и в редакцию, где будет произнесен приговор моему труду.
Как только прочтёшь, то напиши свой чистосердечный отзыв и, конечно, не скрывай от меня, если работа будет нехороша, я верю твоей искренности, Шура. Я слыхал о большом бюрократизме в редакции, где рукописи тонут в портфелях, тем более что редакции за валены ими в связи с походом ударников в литературу.
Ты писала о товарище Романе. Если он действительно пожелает отдать своё время на просмотр работы, это будет хорошо.
Шурочка, если ты не сможешь продвинуть в редакции просмотр моей работы или вообще с этим делом будут большие затруднения, то, ознакомившись с работой, прошу переслать её мне. Я буду сам начинать «хождение по мукам».
Всего несколько дней, как я выбрался из тяжёлого недуга. Моё физическое состояние надавило на девятую главу тяжёлым прессом. Она получилась не так, как я хотел.
Она должна быть шире и полнее и вообще должна быть ярче. Но, Шурочка, разве хоть один товарищ писал в такой обстановке, как я? Наверно, нет.
У нас в комнате сейчас 8 человек. Мама тяжело переболела и сейчас ходит еле-еле. У Раи на фабрике прорыв, так что дни и ночи её проходят там. В этом оправдание её молчания. Уходит в 6 часов утра и приходит в 2 часа ночи.
Несмотря на то, что писем тебе не пишем часто, всё же тебя никто из нас не забывает и <все> шлют свои приветы.
Итак, Шурочка, через несколько дней, в крайнем случае через две недели, ты получишь мою работу. Я буду с нетерпением ждать от тебя писем с отзывом о ней.
Я очень критически отношусь к написанному, где много недостатков, но ведь это моя первая работа. Если её не угробят по первому разряду, если она не окажется литературно неценной, то это будет для меня революция.
Итак, милый товарищ, жму крепко твои руки. Письма с рукописью не буду посылать. Смотри же, не забудь, что я с большим нетерпением буду ожидать твоего отзыва.
Твой Николай Островский".
Не менее интересно в этом плане и следующее письмо, написанное той же Жигиревой. Разумеется, длинные письма можно было бы пересказать в двух-трёх словах, но читателю несомненно гораздо любопытнее читать те самые строки, что писались в прошлом веке, ибо только они могут донести истинное дыхание времени и подлинные чувства человека, жаждущего жизнь прожить не зря, человека, находящегося буквально на краю жизни, но мечтающего хоть что-то успеть сделать для человечества. Это ощущается в каждой строке, в каждом слове писателя. Прочтём же очередное послание, как бы устремлённое к нам в будущее, написанное 9 декабря 1931 г.
"Шурочка, милая!
Твоё письмо сейчас получил. Милая! Если бы мне не так тяжело писать, сколько бы писем я тебе, моему другу, написал бы! Я с большим волнением ожидал от тебя письма, твоего впечатления о книге.
Шурочка! Я не в силах в письме описать, в каких условиях писалась книга <…>. Шурочка, книга была бы несравненно лучше, она должна быть лучше, если бы не невыразимо тяжёлые условия. Не было, кому писать, не было спокоя… не было ничего. Я не могу себя расстреливать, не пытаясь проверить ещё возможность быть партии не балластом. Я берусь за литучебу всерьёз. Я ведь почти безграмотен в литучёбе. И я знаю, что смогу написать лучше.
При упорной учёбе, при большом труде можно дать качество. Но это возможно лишь при условии, если меня не постигнет грубый разгром в редакциях, если меня с первых ступенек не швырнут за дверь. А это я ожидаю, так как чувствую всю слабость труда. Ты одна знаешь мою трагедию, но редакции знают одно – качество. Писать такой бедноте трудно. Рукопись стоит мне 245 руб. В МАПП даже бумаги не продали, купил по 15 коп. за лист. Машинистке за страницу 75 коп. Все эти причины затрудняют работу.
Ты неплохо отзываешься о написанном, радостно это. Если я в этой беспросветной обстановке смог написать так, что ты не считаешь худым и бесцветным, то я рад. Я даю тебе полное право распоряжаться рукописью. Я безусловно верю, что ты сделаешь все, что в силах, дабы редакция просмотрела и вынесла свое суждение. Именно об этом я и писал. Я ведь хочу одного, чтобы книга не плавала по три года в редакционных дебрях. В литературу входят ударные массы, и редакции захлебнулись от тысяч рукописей, из которых свет увидят единицы.
Я ожидаю твоего письма большого. Не жури меня за редкие письма. Тяжело писать не своей рукой. В своём письме напиши и о Корчагине. Как, сумел ли я хоть отчасти правдиво написать о юном рабочем-комсомольце?
Пиши о себе. Мы ждём большого письма, Шуринька, хотелось бы с тобой видеться. У нас морозы – 20—24°. Все в семье переболели, и Раинька тоже. От друзей редкие вести. Крепко жму руки. Не забывай нас. И, не стесняясь, рассказывай, как меня кроют за книгу.
Николай.
Декабрь, 9-го."
Феденёв, который, как мы знаем уже, курировал весь ход написания первой части романа, между тем, в своих воспоминаниях почему-то совершенно упускает все эти подробности с отдельными главами. Вот как он пишет о своём участии в работе с книгой:
"Помню тот день, когда Николай Алексеевич дал мне законченную рукопись первой части романа «Как закалялась сталь». Вручая её, он сказал:
– Прочти сначала сам, если одобришь, отнеси её в издательство «Молодая гвардия».
Второй экземпляр рукописи он послал в Ленинград своему другу Александре Жигиревой.
Роман произвел на меня огромное впечатление. Прочитав рукопись, я отнёс её в издательство «Молодая гвардия». Папку приняла от меня секретарь, молодая девушка. Я коротко рассказал ей биографию автора, Рукопись передали рецензенту на отзыв.
Чуть не каждый день я заходил в издательство, но ответа не было. Не было ответа и из Ленинграда. Тревога за судьбу рукописи охватила меня. Нечего говорить о том, что переживал Островский в эти дни ожиданий. Ведь решался вопрос: победа или поражение? У него вкрадывалось подозрение: от него что-то скрывают, не хотят сказать, что работа забракована.
Наконец мне дали прочесть в издательстве отзыв рецензента, в котором было написано, что автор не справился со своей задачей, выведенные им типы нереальны, рукопись не может быть принята к печати. Как сказать обо всём этом Николаю? Я колебался. Не лучше ли подождать отзыва ещё одного рецензента? Однако мне вспомнились слова Коли: «Самая горькая правда мне дороже слащавой лжи». Он не любил,
когда от него что-нибудь скрывали. И я решил рассказать ему всё, как было.
Мне не пришлось успокаивать его. Наоборот, к великому моему изумлению, он сам стал успокаивать меня:
– Теперь столько расплодилось писателей, и все хотят, чтобы их печатали. Если рукопись забракована, значит, она действительно плоха. Нужно поработать ещё, чтобы сделать её хорошей. Победа даётся нелегко.
Николай Островский упорно шёл к своей цели, он знал, что добьётся победы, и трудности его не страшили".
Понятно, что эти воспоминания во многом не совпадают с тем, что писал Николай Островский в своих письмах. Но в данном случае интересна судьба рукописей первой части романа. По словам Феденёва один экземпляр он отнёс в "Молодую гвардию", а второй отправили в Ленинград. И всё.
А вот что пишет в своих воспоминаниях второй очевидец – Раиса Порфирьевна:
"По вечерам под диктовку обычно писала я. Но темпы работы не удовлетворяли Николая. Тогда по его просьбе Ольга Осиповна обратилась за помощью к соседке по квартире, восемнадцатилетней девушке Гале Алексеевой. Галя согласилась. Она писала седьмую, восьмую и девятую главы первой части романа «Как закалялась сталь».