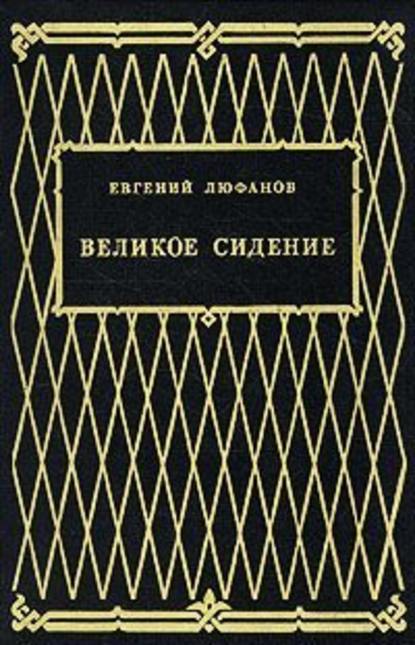По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великое сидение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Открыла коробочку, поднесла к лицу – и повеяли, повеяли на нее, защекотали в носу «вздохи амура».
И решила ту коробочку утаить.
VI
На подоконнике чем-то наполненный холщовый мешок. Тронула Анна его, подумала – не орехи ли? Раскрыла мешок, а в нем – зубы: желтые, почерневшие, целые и обломанные, подгнившие и здоровые, собственноручно вырванные царем Петром в пору его зубодерного увлечения.
Одним из самых верных способов приобрести расположение государя было обратиться к его помощи вырвать будто бы больной зуб. Не беда, что он совершенно здоровый, – зубов много, нечего их жалеть.
От окон исходил мглистый свет, потому что на дворе было хмуро. Анне стало вдруг зябко, и она поежилась, передернула плечами. А может, причиной тому были эти самые зубы, до которых дотронулась рукой, или монстры, что упрятаны в банки и смотрят оттуда. Было боязно, оторопь брала, а уйти-убежать не хотелось.
А вот – две доски с наколотыми на них мухами, жужелицами, мотыльками, жуками. И на что это пакость такая?..
В углу комнаты, опустив длинные шестипалые руки, стоял живой одноглазый монстр, и этот глаз у него был навыкате. Он тут сторожил и не давал разводиться мусору. Анна с любопытством посмотрела на него, а потом подошла к банке с утробными младенцами, кои были о двух головах, и о двух животах, а рук у каждого по одной и по одной ноге. Мерзко все и предивно, и словно глаза завораживает.
В другой банке лежала женская голова с длинными темными волосами, с пухлыми, точно застывшими в ухмылке губами и будто бы даже с легким румянцем на щеках. Глаза у головы прикрыты набухшими веками, виден был шейный отруб.
И на голову Анна смотрела с боязливым любопытством, пригибалась, заглядывала снизу, стараясь увидеть глаза головы.
Хлопнула дверь, и Анна вздрогнула. Увидев вошедшего царя, засуетился живой шестипалый монстр, что-то замычал, затряс головой, – он был немым от рождения.
– Аннушка?.. – удивился Петр, увидев племянницу, и обрадовался. – Здравствуй, свет!
Анна сделала книксен, и дядя поцеловал ее в голову. Потом тронул за подбородок и, увидев смущение на ее лице, засмеялся. Анна улыбнулась в ответ.
– Не робко смотреть? – спросил Петр, кивнув на расставленные по полкам банки, и, не дожидаясь ответа, похвалил: – Молодец!
Он сам подвел ее снова к банке с утробными двухголовыми младенцами, положил широкую свою длань на плечо племянницы и, слегка откашлявшись, неторопливо заговорил, чтобы было для нее вразумительно:
– Как в человечьей, Аннушка, так в зверской и птичьей породе случается, что могут родиться монстры, сиречь уроды, кои во всех странах бывают и в просвещенных государствах собираются для людского смотрения, как диковины. Иные невежды по малому своему разумению полагают, что причиняется уродство зарожденным существам по дьявольскому наваждению, от злонамеренного чародейства и волшебства, чему, Аннушка-свет, быть никак не возможно. Порча же случается от повреждения внутреннего, а еще от страха и мнения, коему была мать подвержена. Тому явные примеры есть: чего ужаснется при беремени мать, того такие отметины на дитяти окажутся.
Анна слушала, приоткрыв рот и понимающе кивала головой.
Петр любил анатомию, медицину. Кроме выдергивания зубов сам выпускал из больных водяной болезнью воду и искренне удивлялся, отчего такие больные умирали, когда им было сделано полегчание. Любил открывать кровь; отменял лечение, назначенное докторами, и назначал свое. Служащим в петербургском госпитале вменялось в обязанность извещать царя о всех случаях, когда предстояла интересная операция, и не упускал возможности присутствовать, а иной раз, отстраняя хирурга, сам брался за нож, уверенный, что сделает операцию скорее и лучше.
Петру обязана Москва открытием в 1706 году первого военного госпиталя и школы хирургии; в том же году по его указу были учреждены аптеки в Петербурге, Казани, Глухове, и главное его внимание было обращено на лечение раненых воинов, а о партикулярных городских жителях и простых людях говорил, что с них довольно и бани. Советовал сильней париться, чтобы жаром выгонять болезнь, а потом сразу же окунаться в холодную воду или в снег, чтобы всему телу дать встряску. Ради изучения анатомии с любопытством рассматривал срубленные головы казненных преступников.
– Перед несколькими летами, – рассказывал Анне Петр, – мною издавался народу указ, чтобы объявляли всех видов монстров, но таят, таят их невежды, – с огорчением вздохнул он. – Того ради указ подновлять придется. Особую просторную куншт-камеру надо будет состроить для них. Полагаю, что наберу монстров во множестве. Быть того не может, чтобы их в России не было. И птичьи, и скотские, и зверские, и человечьи тож есть. Вон, – указал на шестипалого, одноглазого, стоявшего в некотором отдалении, – ста рублей за такого не пожалел. А доставили бы гораздо чуднее, то гораздо больше бы дал. И все, Аннушка, монстры, когда умрут, то кладутся в спирты, буде ж того нет, то в двойное, а по нужде в простое вино. И закрывать надо крепко дабы не испортилось, а виднелось сквозь стекло, как в подлинной натуралии.
Петр подошел к живому монстру, велел ему раскрыть рот и принюхался: нет, винным перегаром не пахло. А допрежь такой тут сторож стоял, что в недальнем будущем времени от всех мертвых монстров осталась бы лишь одна тлетворная гниль. Прежний их блюститель таким сластеной оказался, что из банок на отпив себе отливал, а чтобы его прокудливость неприметной казалась, добавлял в банки воду. От такой подмены некоторые натуралии стали портиться. Пришлось винопивного лакомку нещадно кнутом похлестать и в каторжные работы отправить. Этот страж монстров воздержанный, достойный похвалы, и царь добродушно похлопал его рукой по плечу. Потом подвел Анну к женской отрубленной голове и поучал:
– Вон, видишь, из шеи жилы торчат? По толстым жилам течет кровь артериальная, а по тонким – венозная. А потом кровь обоих видов в человечьем сердце смешается и в обрат течет, только по венозным жилам – былая артериальная, а по артериальным – венозная.
Это было что-то мудреное, и Анна только хлопала глазами, глядя то на своего ученого дядюшку, то на голову в банке. Вспомнила подсказку двоюродного братца, царевича Алексея: пауков либо тараканов подсунуть. Вот бы смеху-то было! И готова была, на удивление царю, засмеяться.
– Ну, гляди… А в ту половину, мой совет, не ходи, – указал он на закрытую дверь смежной комнаты. – Покуда ты девица, и глядеть тебе на то непотребно.
Петр шутливо ударил ее пальцем по носу, весело подмигнул и сам пошел как раз, в ту, запретную, половину.
Анна запомнила его предостережение, решив: как только отбудет куда-нибудь дядюшка-государь хоть на несколько дней, непременно надо будет проникнуть тогда в ту, потайную комнату. Что ж такое там?..
Смелее подошла к живому монстру и остановилась против него. Монстр пристально, не мигая, смотрел на нее своим единственным глазом. Анна подобрала пальцы к ладони, оставив один указательный, нацелилась и ткнула им в этот немигающий, в упор глядящий на нее глаз, а потом, не удержавшись от разбиравшего ее смеха, фыркнула в ладонь и выбежала вон.
Дождь лил не переставая весь день, и от этого такая скучища, что устала царица Прасковья то и дело закрещивать широкий позевок. До ночного сна еще далеко, говорить не о чем, вроде обо всем уже переговорено, да и не великая она охотница здесь, в Петербурге, попусту лясы точить, – еще, чего доброго, сболтнешь лишнее. Решила в клубок пряжу мотать, взятую у Катерины Алексеевны.
– О-охти-и… – зевалось все время.
Приехали в Петербург, и оказалось, что тревоги и опасения были напрасными. Вот и слава богу! Не за худым призвал царь сюда: хочет, чтобы покорные ему сродичи находились при нем. Ну и пусть. Подтвердил свое обещание: племянниц, Катерину и Анну, как они становятся вполне в подоспевшей поре для замужества, выдать за иноземных не только по своему званию вельмож, а доподлинных королевичей. Пусть так.
Новая – сказать, как бы царица, – хоть и из поганских мест ее привезли, хоть и подлой породы, а ничего, бабочка обходительная, и государь ею шибко доволен.
Опять – пусть.
Дивны дела твои, господи! Старик Тимофей Архипыч провещал напоследок, будто Парашке королевною стать, а Анне будто схиму принять. Пути господни неисповедимы, но схиму-то Анне зачем?.. Что-нибудь наврал старый, переговорил через край.
– О-хо-хо-хо-хо-о…
О чем бы подумать еще?.. Ах да, пряжу ведь хотела мотать… Экая трухлявая голова, – позабыла.
Стала пряжу мотать, и голова сразу сделалась легкой, бездумной, да и рукам дело нашлось. Позевывала и мотала, мотала себе и позевывала, – так время и скороталось до самого вечера. Куда как хорошо!
А царевны отправились смотреть заморских лицедеев в большом комедиальном амбаре, что у литейного двора. Амбар этот называли еще непонятным словом – феатр.
В особом чулане с окошком купили впускные ярлыки на толстой бумаге и вошли в зал. Анна была в модной прическе, называемой «расцветающая приятность», надушенная «вздохами амура». Замечала, как на нее указывали пальцами и о чем-то перешептывались, как павы разряженные, ближние и дальние соседки по скамьям, и была этому очень довольна: конечно, о ней говорят. На Катерину смотрели меньше, а Парашка вовсе никого не интересовала.
Зрителей было немного, наверно, потому, что за самый дешевый ярлык брали сорок копеек. Ветер гулял по рядам, и слышно было, как по крыше стучал дождь. Холодно в зале, хотя стены и обиты войлоком. В одном месте капало с потолка, и на полу образовалась лужа. Коптили сальные свечи.
Представление началось, как только на дворе потемнело. Музыка загудела, заревела; поросятами под ножами завизжали флейты, тяжело и гулко вздыхала большая труба, и у трубача выпучивались глаза, а надутые, раскрасневшиеся щеки вот-вот готовы были лопнуть, того и гляди, что из выпукло обозначившихся на лбу жил брызнет кровь… эта самая – венозная либо артериальная. Гремят музыканты, грохочут, свистят, ажио в ушах свербит, и кажется, что сами дощатые амбарные стены ходуном ходят.
Представлялась комедия с песнями и танцами о дон Педре и дон Яне, лихом соблазнителе слабых женских сердец, искусном амурных дел мастере.
Зрители, глядя на представление, громко щелкали орехи, плевались ореховой скорлупой, громогласно выражали свои похвалы и осуждения, переговаривались между собой. После каждого явления занавесный шпалер опускался, оставляя зрителей в темноте, и это означало перемену действия.
Анне нравилось все: и как пляшут, и как поют, и как, фальшивя, играют музыканты, и как ходят по скрипучим подмосткам нещадно размалеванные лицедеи, неистово размахивая руками. И Катерина сидела обомлевшая от восторга, пяля на всех изумленные глаза, и от души хохотала при каждом уместном и неуместном разе. А Парашка вскоре же начала дремать и сидела, дергаясь головой.
Когда представление окончилось, к ним подошел какой-то господин, с почтительным поклоном изысканно поводил в разные стороны рукой, как бы на испанский манер, и протянул афишку о предстоящем на другой день зрелище. На афишке означалось: «С платежом по полтине с персоны, итальянские марионеты или куклы, каждая длиной в два аршина, будут свободно ходить и так искусно представлять комедию о докторе Фавсте, как будто почти живые. Тако же и ученая лошадь действовать будет и канатный плясун».
При выходе из комедиального амбара Анне почудилось, что пристально глядят на нее, прожигают как угли чьи-то глаза. Повернула чуть в сторону голову – так и есть: немного поодаль, пробираясь вдоль стены, уставился на нее взглядом молодец в шелковой голубой рубахе, тот самый, из гостиного двора. И еще показалось, что, покривив губы в озорной усмешке, шибко потянул он носом в себя, будто стараясь уловить исходящие от нее, Анны, «вздохи амура». Анна вдруг засовестилась и опустила глаза.
У самого выхода был какой-то шум и слышались чьи-то громкие ругательства. И свалка была. Оказалось, что подрались пьяные конюхи. Их принялись усмирять, и тут же, под дождем, высекли.
Анна была очень довольна. Даже дождь веселил ее. А впереди каждый новый день сулил многие разные и зело приятные утехи. Как хорошо, что дядюшка-государь велел приехать им в Петербург!
– Зазывай, Митрий, зазывай! – приказывал сыну гостинодворский купец, заскучавший без покупателей. – И что это за день такой пустой выдался?! – ворчал он.
Митька, тряхнув волосами, выскочил за раствор лавки.
– А вот, господа хорошие, распочтенные… – громко и певуче только было начал он, да опрометью назад. – Царь идет!