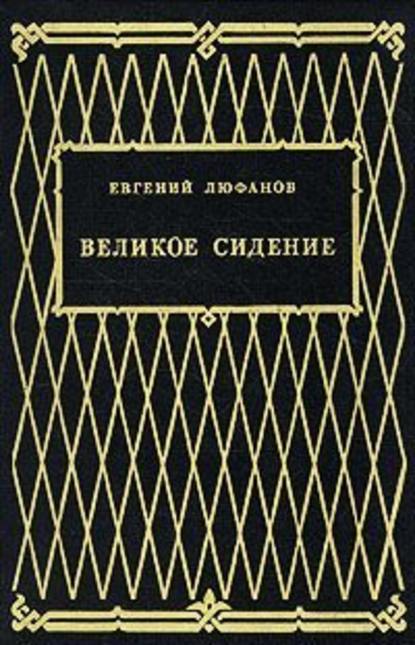По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великое сидение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прасковья посадила рядом с собой дочерей, окинула взглядом комнату. По окнам спущены гарусные шпалеры, в простенках висят зеркала, в шандалах горят не сальные, а восковые свечи, и от них исходит как бы церковный дух. На потолке, будто разомлев от жары, раскидались голые амуры, все, как один, с цветками в руках, круглолицые, пухлощекие, с толстыми ножками в складочках. Иные из них будто летят, другие – лежат, перепрокинувшись кувырком, а посредине – похожий на кудрявого арапчонка, будто в длинную дудку дудит.
На стене большая картина: нарисована почти что голая девка с собакой и самострелом в руке. Именованье той девки – Диана, как шепнула матери Катеринка.
У стен на скамьях, покрытых коврами, мамаши с девицами, какие-то тетушки и прочие женского пола персоны. В одежде на них – парча, дородоры, глазеты, алтабасы и другие дорогие ткани. Иные орешки грызут, иные просто так скучают и млеют. У особо знатных модниц почерненные зубы – белые-то у арапов да обезьян, и эти модницы явно свысока смотрели на остальных белозубых.
Танцевали девицы и дамы, как заведенные куклы, не сгибая коленок; переходили одна от другой со стороны на сторону, а то начиналось вдруг какое-то несусветное многовертимое это плясание женское. Царица Прасковья осуждающе повздыхала, но явно порицать никого не осмелилась. Понимала, что по указу цареву действуют, ничего не поделаешь, сами себе не вольны. А допытливым своим глазом сразу приметила, как сидят некоторые мамаши, близко около себя держа дочек, и такая у них на лице печаль, что, похоже, и скрывать не хотят, сколь отвратны им все эти ассамблейные новшества. Танцевали больше дворские девки, то бишь фрейлины.
Только кончился менувет, стали манимаску танцевать, а потом введенный самим царем новомодный танец менувет-пистолет, а за ним – матодур еще. И когда он только всему этому обучался – просто удивление берет.
Маменьки и их дочки озирались на царицу Прасковью и на ее царевен, а причинами тому было: первое – что сама царица обряжена в презренную старину, от коей в Петербурге все давно отрешились, а уж на ассамблее и подавно зазорно в таком виде быть. Второе – что старшие ее дочки хотя и герцогини и в самых модных туалетах сидят, а держаться, как тому следует быть, не умеют. Подошел кавалер – младший апраксинский – в темном, мелкими кольцами завитом парике, в туго натянутых на ноги белых чулках, в кои были вправлены шелковые панталончики канареечного цвета, в туфлях с позолоченными пряжками, помахал из стороны в сторону правой рукой, потряс на обшлаге кружевной оторочкой и со всеми изысканными церемониями стал приглашать Катеринку к танцу. А у нее от этих кавалеровых столичных манер все лицо раскраснелось, смехом прыснуло, и она, затыкая себе рот рукой, прижалась к материнскому боку. А у Анны от зависти глаза злым огнем разгорелись – зачем не к ней кавалер подошел! Но тут же все это исправилось. Не придав большого значения невежеству мекленбургской герцогини, кавалер остановился перед Анной, и она поспешно поднялась с места. Тут все глаза на нее. Не оробев, глазом не сморгнув, выступила она вперед, держась за протянутые кавалеровы пальцы. Музыка заиграла шибче. Собравшиеся было снова танцевать расступились, давая простор хозяйскому брату и родной племяннице государя.
Анна помнила танцевальные наставления немца Рамбурха – как стопами начинать выступать под первые музыкальные звуки, как потом вокруг самой себя обернуться и с левой ноги маленько как бы присесть, а потом на другую сторону перейти. Анна со всего этого и начала, ан танец теперь начинался по-иному и она тут же сбилась.
Были в комнате такие невоздержанные особы, что ахнули и хотя посовестились во весь слух рассмеяться, но закривились губами, усмешливо их покусывая. Такой Измайловской деревенщиной повеяло на них от курляндской герцогини, что нечто неладное поняла даже царица Прасковья. Она притворно кашлянула, заерзала на месте и смутилась лицом. Катеринка исподлобья глядела на сестру – красная, будто пареной свеклой натертая. И Парашка тоже законфузилась. Анна повернулась туда-сюда, явно почуяв некоторую нескладность, слегка оперлась на кавалерову руку и прикрыла глаза.
– Ах, чегой-то голова закружилась…
Кавалер подвел ее к месту, опять руками, ногами, всем корпусом учтивую изысканность проявил, и Анна села, начав платочком обмахиваться, – раскраснелась и душно, мол, ей.
Как раз кстати появилась карлица с кошелкой яблок.
– Сделайте вашу милость, поугощайтесь, – протягивала она каждой гостье по яблоку.
Не взять нельзя, обидится.
– Какая махонькая, а выговаривает столь речисто, ровно как попугайка, – умилялась вельми важная гостья с почерненными зубами. – Намеднись была я у светлейшей… у Дарьи Михайловны Меншиковой, так она мне показывала, какую девку-шляхтенку ей супруг из Польши привез и в день рождения подарил. Такая словесница, каких мало видано. Заместо околевшего попугая Дарью Михайловну увеселяет. И эта, вишь, говорливая.
Карлица являлась желанной и даже необходимой принадлежностью любого знатного дома, но далеко не всем хозяевам удавалось расстараться достать себе хоть одну. Домов знатных много, а карлицы же все наперечет. А у особо счастливых владельцев имелись еще и шуты, умевшие острыми шуточками повеселить и хозяина и гостей. У самого царя Петра карлиц не было, он довольствовался шутами, из коих главным был шут Лакоста, иностранного происхождения. Шутки ради Петр подарил ему необитаемый остров в Балтийском море, с титулом «царя самоедского». Когда шут не нужен был во дворце, царь охотно уступал его на ассамблейные сборища, и Лакоста в тот день веселил людей у Апраксина.
Хорошо, что он тут не вертелся, не то поднял бы на смех курляндскую герцогиню, не умевшую танцевать. Только и ожидай, что на какую-нибудь неприятность нарвешься. Вон опять заиграла музыка. Еще Парашку пригласят танцевать, а та и вовсе смешается. Удалиться бы подобру-поздорову.
Неслышно для других царица Прасковья перешепталась с дочерьми и степенно поднялась. Поднялись и царевны. Тихонько прошли мимо поджавших ноги прочих дам и девиц, – вышли из танцевальной комнаты.
– Государыня-матушка, Прасковья Федоровна, пошто меня обижаешь? – встав на пути и преграждая дорогу дальше, взмолился хозяин. Позабыв о правилах ассамблеи – ни в кое время никого из гостей не задерживать, прижимал руки к груди и, ссылаясь на раннюю пору, просил еще погостить. – Герцогинюшки, милые, уговорите мамашеньку.
– С непривычки трудно нам, Федор Матвеич. Уж ты не обессудь, батюшка. Премного благодарны за твою ласку и привет, – степенно кланяясь, отвечала ему царица Прасковья.
– Ну, матушка государыня, в таком разе как хошь, а без чарочки-посошка уйти тебе от меня никак невозможно. А также и дочкам твоим.
– Знаю твой этот обычай, знаю, – посмеялась царица Прасковья. – Чтобы тебя не томить и нам не задерживаться, ради свидания по малой чарочке за твое здоровье выпьем.
Он обрадовался, что скоро так согласилась, но вместо малой чарочки самолично поднес царице Прасковье большой кубок венгерского, а также и ее дочерям. Выпили все, даже и Парашка.
– Оставались бы… Государь с минуты на минуту пожалует, светлейший князь тоже… Мы картофью сейчас угощаться станем, а потом кофий пить.
И как раз под эти хозяйские слова стряпухи несли к столу деревянные солоницы и большие глиняные горшки с дымящейся вареной картошкой. Верхние картофелины слегка запеклись, и на них лопнула кожура, из-под которой виднелась белая рассыпчатая мякоть, самая суть земного плода.
– Нет, нет, уволь, батюшка, – заторопилась царица Прасковья к выходу.
– Пошто заспешила, маменька? – недовольно проворчала в сенях Катеринка. – Картофью бы угостились.
– Такой поганью рот себе осквернять?.. Да я скорей свой язык проглочу, а мерзопакости в рот не возьму. Тьфу!.. – отплевалась мать.
И Парашку от брезгливости передергивало. Дурная слюна во рту набралась.
Анна у себя в Митаве пробовала картофельный плод, курляндцы в гостинец ей из Риги несколько штук привозили. Сырые эти земляные яблоки хотя и сочные, но маловкусные, а сваренные или испеченные есть можно. Она насупила брови, но промолчала, как и Катеринка досадуя на то, что рано решились уезжать.
Могли бы не в танцевальной, а в мужской разговорной зале сидеть, где вином угощаться станут. Еще бы венгерского выпили, плохо ли?..
– Был я в Стекольном городе… в том, как бишь… в Стокгольмом, и в других европских городах был, и все доподлинно вызнал. Нет, не так пиво надобно высветлять. Разумей: чтобы твое пиво стало в самой скоре светло, должно брать песку крупного, придавши оному малость сахару. Разжарить все и высыпать в бочку, – увидишь тогда, что за неделю станет твое пиво совсем светло… А для чего, спрашиваешь, там музеумы разные, – чтобы люди, приходя в них, знания ведали. Вот для чего.
– Что говорить! Обучаются наши там, ума набираются.
– Все европские нации много грамотней, чем у нас, – беседовали петербургские градожители, а старые московские бояре сидели поодаль от теперешней столичной знати, многодумно молчали, и те из них, что были посмелей, перемигивались с тайными усмешками да шепотливо спрашивали один другого:
– Сколь приятственной петербургская жизнь тебе глянется?.. Ась?.. Чего, государь мой, дуешься все?.. – горько посмеивался вопрошавший, – посмеивался и над молчаливым соседом, и над собой.
– О-ох… – вздыхал тот. – Курить надобно. И не хочешь, нутро все мутит, а кури… Заявится государь либо светлейший князь, – опять, скажут, сычами сидите?! А не то – наябедничает кто из нас.
И тянулся боярин к глиняной трубке, к картузу с табачищем, посасывая чубук, неумело раскуривал, морщась от горечи и отплевываясь.
– От такого угощения все глаза смутились, а что сделаешь?
– Да… Против ветра, мил-друг, не подуешь. Раскуривай хорошеньче.
Князь Борис Иванович Куракин, побывавший во многих заграничных городах, сидя в своей группе петербургских чиновных людей, рассказывал им о памятнике, поставленном в Голландии Эразму Роттердамскому:
– Сделан медный мужик, Еразм этот, с книгою, в знак тою, что человек был гораздо ученый и сам людей учил, а потому при нем и медная книга.
А другой князь, склонившись к самому уху дружка-приятеля, сообщал, как в том же Роттердаме довелось ему вместе с князем Борисом Куракиным ужинать в одном доме, где вино и кушанья подавала догола раздетая женская прислуга. Рассказывал об этом и отчаянно крутил головой.
– Не потешно ли, а?..
– А с вами за стол не садились? – еще больше навострив ухо, спрашивал слушавший.
– Нет, на это строго у них. Бабам перед мужиками только услуживать, как и у нас.
– Пересядь поближе сюда… Я тебе сам расскажу… Когда мы в чехской столице в городе Праге были, то там, сказывали, у них со старины повелось, что бабы могли вместе с мужиками попировать, но только за столом сидеть им не дозволялось, а стояли они за мужичьими спинами. А чтоб со стола какую-нибудь еду себе доставать, для того у них были ложки с длинными черенками.
– А во Франции парижский женский пол никакого запрета ни в чем не имеет. Свободно обходится с мужским полом, и любой другой кавалер для нее наравне с мужем значится.
– Истинно так, я знаю. Французенка – она для полюбовника создана.
– Погоди, доскажу… Тамошние бабы, кои мадамами называются, когда беспрепятственно друг с дружкой съезжаются, то на музыках беззазорно играют и поют во весь рот. И когда к ним чужие мужья понаведаются, то сильно рады становятся, и… – и уже совсем-совсем тихим шепотом, одними губами, в самое ухо слушателю-собеседнику, что тот спешный шорох лишь слышит.
А князь Борис Куракин, воодушевляясь с каждым словом, вспоминает свое:
– Получили мы из Посольского приказа справку, что имя папы римского Иннокентий Двенадцатый, отчина его есть Неаполис, а породою он есть принцепс Пинятелий и герб его есть три горшки стоящие. А титул пишется – блаженнейшему либо светлейшему епископу римскому. А сам папа в титул добавляет еще от себя – раб рабов божьих. Ладно, узнали про то. А в государевом его царского величества наказе нам говорилось, что, буде при первой аудиенции папские служители скажут, чтобы мы целовали папу в ногу, то отнюдь не соглашаться на такое и стоять на том накрепко, чтобы поцелуй папе был только в руку. Мы и стоим на своем, а те согласия не дают. Дни идут, впору нашему посольству в обрат домой возвращаться без встречи с папой. Так мы об этом и заявили. Еще после долгого спора, касательно церемонии при представлении папе договорились, чтоб я, вместо полагающихся по их правилам двух раз, поцеловал бы папу как бы в ногу лишь один раз и так, чтобы только видимость тому сделать. Так все и свершилось. Перед папской ногой воздух поцеловал.