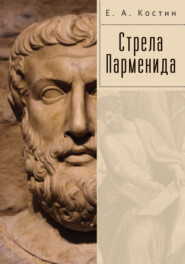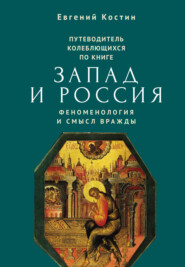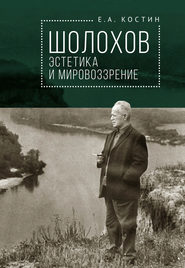По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пушкин. Духовный путь поэта. Книга вторая. Мир пророка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Название этой главы является отчасти и неточным, его необходимо расширить – от «выбора русской культурой своего пути развития» до «выбора Россией своего пути движения вперед». И здесь надо разбираться, почему именно с именем Пушкина мы увязываем столь решительное обновление исторической парадигмы России.
Ни один из русских писателей первого ряда, а русской литературе есть из кого выбирать, не может, помимо Пушкина, ассоциироваться с возможностями самого радикального влияния на духовное состояние целого народа, на коррекцию исторического пути страны. Только один писатель может быть указан в этом отношении – это Пушкин. Развитие поэтом принципиальных основ психологии, интеллекта, идеальной сферы, языка, литературы, культуры в целом всего народа, – непостижимо для объяснения изменений русского общества эволюционным образом. Должно быть ключевое звено в этом отношении. И оно есть – это русский язык, преобразованный и обогащенный Пушкиным самым блистательным образом.
О работе Пушкина над русским языком мы пишем в первой книге своей работы, и там указываем на целый ряд суждений поэта, в которых он сетует на отсутствие в русском языке, по сравнению с иными европейскими языками, аналитических начал, «метафизики», – этому же посвящены и отдельные главы книги второй. И это было совершенно справедливое замечание (отсутствие «метафизики» в языке) Пушкина. Но какого рода работу он производит?
Его пути работы над русским языком не связаны с изобретением новых абстрактных слов или выражений. Или с попытками перевода, транскрипции существующих понятий во французском или иных языках, на русский язык, – он выбирает совершенно иное направление.
Он обнаруживает в самом языке, в полноте его лексического состава, грамматического богатства, «спящие» как бы возможности, которые начинают в его творчестве развиваться не по пути вырабатывания предельной абстрактности и отвлеченности, но по вскрытию в них – уже существующих и многократно употребленных словах русского языка – потенций новых значений, новых смыслов.
«Маленькие трагедии» Пушкина – это приходящий сразу на ум пример высокой философии и подлинной метафизической глубины, которые возникают в тексте не при посредстве употребления слов «онтологического» звучания, но через всю совокупность и словесного состава трагедий, и сюжетного развития, и композиционной стройности текстов, и высказанных суждений героев, и, наконец, по громадности выраженного в них философского содержания.
Это содержание выглядит как открытый Пушкиным смысл существенных сторон бытия, которые были спрятаны за наносными и поверхностными проявлениями, и нужно было снять верхний слой значений слов, чтобы вскрыть глубину и тайну жизни, и тайну человека при посредстве тех же самых слов и их сочетаний, которые еще вчера в русской литературной традиции могли только слегка, внешне, напоминать глубину метафизических открытий, произведенных Пушкиным.
В русской культуре, в ее «языковой части» изменения заметны менее всего. Достаточно позднее формирование русского литературного языка, причем, если посмотреть в этом отношении на пример Н. М. Карамзина, оно происходит в историческом по большей мере дискурсе, говорит, с одной стороны, казалось бы, о его неразвитости, а с другой, об известном сопротивлении, которое этот язык оказывает происходящим изменениям [1].
Мы не будем фиксировать подробно синтаксические и грамматические изменения, произошедшие в русском языке в эпоху Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Заметим только, что немалое воздействие на эти аспекты языка оказал прежде всего французский язык. От этого, кстати, тот удивительный эффект поразительной литературной грамотности громадного числа русских аристократов и иных представителей русского образованного общества, оставивших свои воспоминания, мемуары, написанные на русском языке. Мало того, что они написаны на хорошем русском литературном языке, но логическая лапидарность, убедительность изложения, все это, безусловно, несло на себе отпечаток «аналитического» французского языка.
Нас же в большей степени интересует та часть русского языка, которая сопротивлялась воздействию других языков, сохраняла связь с теми древними пластами языка, которые были видны во времена Пушкина в устном народно-поэтическом творчестве, в бытовой речи русского крестьянства.
Это тот пласт, который фиксировал свое отношение к действительности через лексико-семантический состав русского языка, но также и через определенные грамматические формы особого рода и содержания. Как нам представляется, высказывание в русской художественной речи не стремится к аналитической определенности завершающего или ограниченного по той или иной характеристике суждения, представленного в этом высказывании. Оно как бы оставляет известный зазор между определенностью и неопределенностью формируемого в суждении отношения к действительности.
Это своеобразное «мерцание действительности» почти немыслимо для языков романо-германского круга, которые устремлены на известную закругленность высказывания, его феноменологическую целостность. В русском языке слишком много открытых потенций, через которые и дышит действительность, точно не утруждая себя окончательной завершенностью.
Можно с известной степенью осторожности сказать, что русский язык содержит в себе избыточное количество полисемантических элементов, которые всякий раз оказываются шире тех или иных завершающих интерпретаций.
Этот феномен напрямую связан с эпистемологией русского языка. С той его особой ориентированностью на познание, стремящееся не к ясности и определенности, а к усложненно-двойственному, многосмысленному пониманию бытия при помощи данного языка.
Пушкин не случайно ратовал за необходимость развития в русском языке собственной «метафизичности», ему не хватало ее в его возрожденческом усилии прозрачного и четкого описания объективной реальности (и не только), но эта метафизичность (по типу западного «образца») не появилась и позже. По крайней мере в том виде, в каком она уже существовала в других культурах и языках. Русская культура и, соответственно, русский язык пошли по другому пути.
Много раз было сказано, и автором данной книги в том числе, что русская философия носит во многом художественный характер. Собственно философские труды создавались известными русскими мыслителями на материале, заимствованном из других культур, и его интерпретация становилась самой сильной стороной их трудов.
Но главное движение русской философской мысли шло по пути или неприкрытого художества (Толстой, Достоевский, Тютчев) или через дискурс, который по существу ничем не отличался от эстетического высказывания (Вл. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, Л. Карсавин и вся русская религиозная философия), вплоть до сегодняшнего дня – М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев.
С. С. Хоружий абсолютно прав, говоря о своеобразии русской философской мысли как явлении, созданном на пересечении собственно философского и религиозного суждения (православие как доктрина). Именно через православие (через восточную ветвь древнегреческой культуры, как это чудесно раскрыто у Лосева и Аверинцева) пришла гносеологическая парадигма языка, а впоследствии и всей культуры, на его основе созданной, ориентированная не на п о з н а н и н и е и a н а л и з, а на п о н и м а н и е, п р о н и к н о в е н и е и о ц е н к у.
* * *
Можно проще сказать, универсальная синтетичность высказывания является отличительным признаком русского языка и соответственно текстов, на его основе созданных. Этот синтез предполагает, что происходит собирание разных позиций, точек зрения, отношений, при котором пропадает личностный аналитизм, субъективность и определенность суждения, а торжествует обобщенно-соборный (не могу отказаться от такого определения!) уже и не взгляд, а стереоскопия понимания и проникновения в действительность.
Менее всего русский язык расположен к тому, чтобы он подвергался исследованию с точки зрения структуры, знаковой системы. Хотя это вполне возможно, и вся структурная лингвистика, созданная в России в XX веке, это подтверждает. Но систематизация закономерностей и функций русского языка не приводит к тем результатам культурного плана, о которых мы говорим в первую очередь. (В то время, как языки аналитического плана вполне позволяют это сделать. Переход от структуры языка к структуре мышления совершается в таких языках посредством достаточно ясных логических процедур). Русский же язык не несет в себе этого прямого соединения между грамматикой и заданностью эпистем (структурированных элементов значений (смысла), которые регулируют более глубокие и принципиальные особенности функционирования языка не как способа и особенностей говорения о действительности, но именно что понимания и ее осмысления.
Русский язык эпистемологически и априорно поэтому соединен с некоторыми сверхзадачами существования его самого как способа гносеологического проникновения в данное бытие. Его сущность запрятана не в формах и функциях существования отдельных его элементов, а в присутствии в этих формах особого типа осмысления бытия. Исследователи много пишут об этом в рамках когнитивной лингвистики.
Приведем ряд языковых примеров (безличные высказывания), какие характеризуют феноменологию в том числе русской художественной речи – печалиться, радоваться, смеркается, вечереет и т. д.; направленные сами на себя состояния человека, природы, окружающего мира представляются сокращенными концептуальными формулами, в которых спрятано больше философии действительности, чем в специальных исследованиях строго логического рода.
А. Вежбицкая, проводя различия между русским и английским языком делает верное замечание: «… В английской грамматике имеется большое количество конструкций, где каузация позитивно связана с человеческой волей» [2, 369]. Что же противопоставляет этому русская грамматика? – «безличные предложения разных типов» [2, 371]. «Эти бессубъектные (или по крайней мере не содержащие субъекта в именительном падеже) предложения, главный глагол которых принимает безличную форму среднего рода» [2, 371–372]. Это принципиально важное наблюдение. Оно приводит к мировоззренческому выводу, что в русском языке «мир в конечном счете являет собой сущность непознаваемую и полную загадок, а истинные причины событий неясны и непостижимы» [2, 372].
В русской культуре на самом деле соотношение субъекта и мира имеет отличное от западного варианта значение. Мы не раз в предыдущих своих работах описывали данное различие с точки зрения философии, культурологии, религиозных воззрений. Но анализируя самые глубины русского языка, его семантический состав, грамматические структуры, особенности употребления словоформ, приходится определиться с самыми существенными особенностями р у с с к о й э п и с т е м ы.
Она, во-первых, почти изоморфна самому языку. Этот язык в своих феноменологических возможностях настолько мировоззренчески точно и ментально благоприятно описывал действительность, что иные возможности (метафизические), также гнездящиеся в русском языке, хотя и гораздо в меньших объемах по сравнению с языками романо-германского круга, не требовались им (языком) для порождения иных дискурсов описания мира. Философские суждения помещались внутри самых грамматических конструкций, их «примитивная» онтологичность требовала иных интеллектуальных усилий для их распознания и интерпретации, чем это свойственно другим языкам.
Изначальная а-субъектность и ориентация на целостность восприятия жизни присущи русскому языку. «Безличность» значительной части грамматических конструкций в этом языке отражают не его беспомощность в «субъективистском» духе и смысле, а известную онтологическую широту в плане иного и более продвинутого в своей феноменологической целостности подхода к действительности.
Таким образом, русская эпистема в своем описании действительности ставит перед исследователем целый ряд трудно решаемых задач. В нее саму и ее своеобразие проще уверовать, чем их понять. Она размещается на всем просторе русского языка и может порождать сложный филоосфский дискурс, где угодно и как угодно. Примеры Пушкина, Толстого, Достоевского, Платонова, Булгакова, Пастернака говорят именно об этом. Для нее (этой эпистемы) не существует некой логической матрицы с жестко очерченными краями и границами, за которые нельзя выходить. Напротив, она как раз и предполагает свободный побег за пределы прежних, уже случившихся в культуре и литературе, дискурсов. Она настоятельно требует этого, так как, исходя из своеобразия своей природы, ей больше всего претит повторяемость, дублирование.
Можно заметить, что избыточной и тотальной «агентированностью» (выражение А. Вежбицкой, говорящее о придании языковому высказыванию явно выраженной субъектности) обладает самрусский язык. Это ему принадлежат все права на высказывания и окончательное формулирование всего того, что можно обозначить как русскую ментальность, как инструмент передачи онтологической глубины и своеобразия русского способа мышления и русской души.
Рискнем обозначить это эпистемологическое своеобразие русского языка и, впрямую русской культуры и всего с нею связанного – сознания, ментальности, психологии и прочего, – как евангелическое. Автор прекрасно понимает ответственность данного высказывания и самого сопоставления, но ничего другого не приходит ему на ум, как только это сравнение по духу и форме евангелических высказываний и основных словоформ (слово-мыслей) в русском языке. И там и там явное и безусловное отсутствие той ограничивающей само высказывание агентированной логики; само суждение максимально далеко распространяется за пределы самого высказывания и приобретает дополнительный и многосложный смысл. И там и там, субъект является прежде всего объектом, к которому и направлено высказывание. И там и там символичность пронизывает текст высказывания.
Понятно, что текст Евангелия (во всех его вариациях) не может служить основанием для открытий в области квантовой физики или биохимии, в нем просто не содержится логических предпосылок для совершения мыслительных процедур в области естественных наук. Но те открытия, которые совершил евангелический текст в области «внутреннего космоса» человека и человечества, в области нравственности, эмоций и чувств человека, невозможны при помощи д р у г о г о дискурса.
Но в русском языке помимо евангелического начала присутствует и начало апокалиптическое (позволим себе так крайне осторожно выразиться). Оно, как ни странно на первый взгляд, вытекает из другого пласта русского языка, оттуда, где находятся «категорические моральные суждения» (термин когнитивной лингвистики). Избыточность негативных суждений самого крайнего рода, говоря попросту – ругательств, сравнений человека с разными животными, представителями Ада, по сравнению с другими языками не может не поражать. Замечательные исследования этой особенности русской культуры созданы Д. С. Лихачевым, А. М. Панченко, другими исследователями древнерусской цивилизации.
Но, как верно замечает исследователь, в русском языке присутствует и позитивные речевые преувеличения: «Русская речь отдает предпочтение гиперболам для выражения любых оценок, как положительных, так и отрицательных, в частности моральных. Такая любовь к категорическим моральным суждениям, конечно же, является отголоском моральной и эмоциональной ориентации русской души» [2, 383].
Вообще, это характерная черта русской культуры, когда ее защитниками и особыми ревнителями выступают люди, ученые, которые еще вчера были иностранцами для России. В. И. Даль, наверно, самый яркий пример. Но и в дальнейшем было немало подобных примеров. Анна Вежбицкая из их числа. Блестящий исследователь, она с особой чуткостью и глубиной описывает основные концепты русского языка (культуры), и с большинством ее наблюдений трудно не согласиться. Автор данной книги с истинно интеллектуальным удовольствием цитирует близкие ему суждения А. Вежбицкой.
Но тем любопытнее обнаружить в отечественном языкознания, работающем на похожем материале, суждения, отличные от того, что обнаруживается у польской (австралийской в последние 30 с лишним лет) исследовательницы. Рассмотрим эту, в общем, не слишком принципиальную разницу. Нам это необходимо для уточнения некоторых моментов.
Вот, к примеру, одна из реакций на ее труд: «Книга А. Вежбицкой «Semantics, Culture, and Cognition» замечательна, в частности тем, что она открывает новый подход к старой и давно зашедшей в тупик проблеме. Действительно, сама по себе идея о выражении языком «национального характера» с одной стороны не оригинальна, а с другой – просто неверна. Задача же отыскания в том или ином языке черт, a priori приписываемых соответствующему «национальному характеру» является устаревшей и, по-видимому, безнадежной» [3, 187–188].
Здесь же надо заметить, что авторы статьи являются одними из видных исследователей в русском языкознании проблем, связанных с русской языковой картиной мира. Книга, из которой приведена данная цитата, полна самых глубоких и справедливых наблюдений на этот счет. И полемизировать автору данной работы не представляется возможным по несовпадению собственно предметов исследования (язык и аспекты национальной эпистемологии).
Правда, подобное решительное указание о «неверности» научной проблемы, как это сформулированно именно у авторов данной статьи, а не у А. Вежбицкой, делается в устаревшей форме позитивизма XIX века («национальный характер»), и тут же опровергается следующим комплиментом польскому ученому: «Оригинальность метода Вежбицкой состоит в том, что она идет в противоположном направлении. Анализируя семантику значимых единиц языка (слов, конструкций, морфем) она обнаруживает скрытые свойства человеческой природы, которые при этом оказываются различными у людей, говорящих на разных языках. Таким образом, национально-специфическое в значении единиц данного языка оказывается материалом, на котором может основываться исследователь «национального характера» [3, 188].
Обратим внимание на то, что почти нигде в своих работах А. Вежбицкая не употребляет выражение «национальный характер», предпочитая говорит о «ментальных особенностях» народов, представляющих тот или иной язык. При этом ее анализ основан на глубоком проникновении в семантические и грамматические особенности языка с учетом того, как он формировался на протяжении достаточно длительного времени (явно выраженный исторический подход).
Те примеры, которыми оперируют в своих статьях вышеуказанной книги российские авторы, большей частью основаны на результатах изменения лексики и семантических значений русского языка в основном в ХХ веке и совершенно не учитывают первоначальные этапы формирования языка, в которых и происходила кристаллизация базовых признаков языкового отражения действительности.
Речь, конечно, не идет о том, чтобы вывести из языка набор черт и свойств того, что так старомодно названо «национальным характером», вопрос в другом (для автора данной книги): насколько мы можем опираться на некоторые аспекты языкового сознания того или иного этноса в его продвинутой форме (с развитым литературным языком, с созданным на его основе художественной литературы мирового уровня) для определения того своеобразия, которое так очевидно и бросается в глаза каждому непредвзятому исследователю.
Пушкин совсем не Байрон, Толстой совсем не Бальзак, а Достоевский не Джойс и так далее по списку. Может самый замечательный пример такого возможного сопоставления – это Бродский, гениальный поэт и блестящий эссеист на русском, и всего лишь талантливый, остроумный публицист на английском (не будем даже говорить о его стихотворным опытах на английском языке). Особый пример В. Набоков, но его «Лолита» на английском и русском это два разных дискурса и два разных произведения, сводимых воедино всего лишь идентичностью сюжета и действующих лиц.
Разделение культур и, соответственно, народов, конкретных людей проходит по этим зыбким и меняющимся границам каждого национального языка, в котором запрятаны история становления самого этноса, развитие его культуры во всех аспектах, становление его ментальности, формирование психологических особенностей характера, проявление всего этого в труде, поступках, духовной жизни и выражающий свое отличие от другого этноса прежде всего и самым явным образом через язык.
Опредмечивание языка в сознании, конкретной деятельности человека, в создании государства (мы пока еще на этом этапе эволюции цивилизации можем говорить об этом), его роль в проявлении основных черт и структуры исторической жизни народа – все это во многом определяется через языковую картину мира и в результате в ней фиксируется.
* * *
В итоге сама развившаяся эпистемология русского языка, тесно соприкоснувшаяся с запечатленной через нее же историей народа – от летописей до текстов Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова, заставляет исследователя сформулировать некую формулу русской мысли так, как она наиболее полно и универсально отражает не только основные правила ее осуществления, но и показывает тенденции, по которым она собирается развиваться в дальнейшем. Очевидно, что семантическая и грамматическая структура русского языка тесно связаны со становлением ментальных и религиозных особенностей сознания русского человека. Этот язык, опирающийся во многом на древнегреческую основу, воспринятую им через Византию при посредничестве равноапостольных Кирилла и Мефодия, породил так называемый восточно-европейский Логос — известным образом самодостаточную и завершенную в своих основных мыслительных константах концепцию осознания бытия. Но скорее всего, слово концепция как раз здесь наименее подходяще, лучше было бы это обозначить как некую «эйдологию», в которой наряду с явными, вычленяемыми «концептами», выразимся современно, базовыми представлениями, сформированными через и в самом составе языка, присутствует громадный пласт эмоционально-религиозных, природно-чувственных элементов, которые не поддаются логической апперцепции, но являются неотъемлемой частью всякой частицы (эпистемы), в которой происходит запечатление и объяснение бытия.
Можно сказать, что подчас в развитии русского языка (русского Логоса) на первый план выходит как раз аксиологическая его сторона в ущерб гносеологической, познавательной, и человек движется по жизни ведомый чувством, отвлеченным представлением, религиозной эмоцией, не подвергая их аналитическому рассмотрению или критическому взгляду.
«Полюбить жизнь прежде логики», – сказано героем Достоевского, и это очень точно. Но игнорировать громадный смысл «восточного Логоса» (русского) с точки зрения зрения его тотальности как некоей теории также было бы неверно. Этот Логос содержит в себе не недоверие к человеку и его интеллектуальным возможностям, но ясно и непреложно указывает на его р е а л ь н о е место во всей системе действительности. Русский Логос чувствует опасность торжества и всякого доминирования человеческой индивидуальности (голой логики) над живой жизнью Он чувствует, что такое превалирование отвлеченности над органическими явлениями не может не закончиться катастрофой.
И в самом деле, чем дальше отрывается человек от своих естественных природных корней, чем активнее он заменяет реальный (Божий) мир неживыми предметами, процессами и механизмами, тем дальше он оказывается от реальной связи с жизнью, которая в своем крайнем проявлении (в смерти!) все равно его настигнет и повернет лицом к этой безусловной и органической правде.