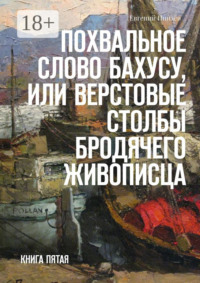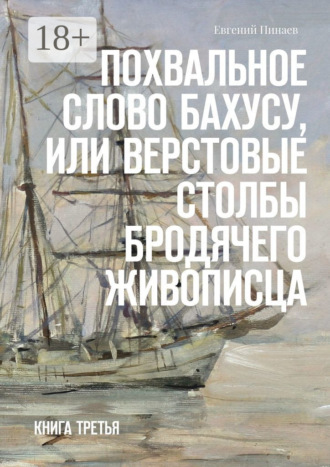
Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца. Книга третья
Ну, а сейчас, в сей славный миг, я бездельничал, правя вахту с чиф-мейтом. Отсюда, видимо, и праздные мысли, что немного смущало: все при деле, а я бью баклуши. Паруса – в норме, бежим ровно. Северное море плещет зелёной волной, а Юрий Иваныч берёт высоту солнца. Берет он сунул в карман, ветер растрепал волосы, и солнце превратило его шевелюру в подсолнух: блондин есть блондин.
Вот он щёлкнул секундомером и поспешил к лагу, что тащился за кормой, и там щёлкнул, а потом резво шмыгнул в ходовую рубку. Я уже сыт подобной картиной, а потому… Гм, пуркуа па? А почему бы не попробовать самому? Секстанов навалом, хронометров тоже предостаточно… «был Ранзо беспортошник, теперь он стал помощник – работает с секстаном и будет капитаном».
– «С хозяином повздоря, решил пойти он в море»! – пропел я решительно (чем удивил сигнальщика) и птицей сиганул с бизань-рубки, удивив на сей раз курсанта, который крутил штурвал под бдительным оком Фокича, нашего лучшего рулевого.
– Давно пора! – кивнул Минин. – Ты ж, Миша, по слухам учишься в мореходке?
– Болтун – находка для врага! – упрекнул я себя, вспомнив, что как-то обмолвился Майгону о заброшенной учёбе, когда он поделился со мной своим намерением поступить в рижскую мореходку. – Учился и недоучился. Возьмусь ли за учебник снова, того не знаю, но коли судно учебное…
– Вот именно! – воскликнул старпом и тут же вручил мне секстан и секундомер. – Я сейчас быстренько решу задачку и определюсь, а ты, Миша, иди наверх, да пару раз посади солнышко на горизонт. Потом – вместе займёмся.
С этого дня старпом принялся натаскивать меня, и когда проскочили Северное море, а потом и Бискай (его – без машины, только под парусами), я уже довольно прилично управлялся с «астролябией» и решал задачки с помощью Мореходных таблиц.
13 июля. Гибралтар. Пришли и отдали яшку 11-го числа. В Дакар снимемся не ранее 16-го, когда подойдёт припоздавший танкер ТМ-322. Он будет сопровождать нас до Азор, где заправит и помашет ручкой. А пока лопаем свежие фрукты и овощи, плоды травы банановой, отдыхаем и поманеньку работаем: циклюем блоки, покрываем их лаком, подкрашиваем борта и переборки. Курсачи блаженствуют и рвутся на берег, но Покровский ведёт строгий учёт, а в увольнение пущает только с комсоставом, не доверяя нам, палубным швейкам.
Я в увольнение не спешил. Занялся письмами, так как подошёл херсонский СРТ «Идени», вот я и решил отправить почту с калининградскими морагентщиками. А ещё мне хотелось сделать этюдишко или, в крайнем случае, пару набросков с буржуйского лайнера «Леонардо да Винчи», родного брата «Андреа Дориа», затонувшего близ Нью-Йорка после столкновения со шведским сухогрузом «Стокгольм». Меня, само собой, интересовали не родственные связи двух итальянцев, а внешний вид респектабельного сеньора, доставившего к Скале ораву не менее респектабельных господ, и сверкавшего на голубой скатерти бухты, наподобие огромной сахарной головы, режущей глаз своею белизной.
У меня был свой интерес к этому великолепному судну. Уже давно хотелось написать экзотический холст с названием «Город у моря», на котором белый город сбегал из поднебесья, с уступа на уступ, к синему морю, а на нём, на фоне зданий, испятнанных голубыми тенями и купами деревьев, стоял бы такой вот красавец вроде «Леонардо», и были бы город и судно олицетворением тех видений, что посещали меня когда-то в детских мечтах. Замысел (пышно говоря) возник, когда «Грибоедов» влачился мимо Танжера, который – сам-то, по сути, не шибко романтичный и презентабельный – лишь дал толчок завлекательной мысли. Так и возник в шевелении серого вещества город-мечта, пароход-мечта и мечтательный взгляд со стороны океана на южную, в мареве, идиллию. Словом, как в песне: синее море, белый пароход, плавает мой милый уж четвёртый год.
Этюда я так и не написал. За лайнером виднелся холмистый берег с городом Ла-Линеа, а его рыжие бугры меня не вдохновляли, да и будущая картина теперь настолько явственно виделась мне, что, ограничившись набросками, решил: встречи с чудом судостроения достаточно для будущего «шедевра», как достаточно и встреч с Гибралтаром, который оставил скверную память. Нет, вру, просто грустную, так как именно здесь, у подножия Скалы, я обязательно подвергался непонятным приступам ностальгии по нашим русским берёзам, и тогда жестяной шелест пальм словно скрёб по сердцу своими острыми листьями.
От увольнения, впрочем, я не отказался: валюта обязывала сойти на бережок и посетить лавки на Мейн-Стрит, которые я, нищий идальго, обошёл стороной в прошлый раз, а теперь, охваченный жаждой стяжательства, решил прошерстить от порта до стены Карла Великого.
Надо сказать, что списки групп увольняющихся на берег соответствовали истине только на борту баркентин. В городской толчее они подчинялись закону броуновского движения, которое, если я ничего не путаю, хаотическое по своему существу. Все «молекулы» быстро распадались на «атомы», а те снова сбивались в кучки и упорядочивались только в порту для возвращения в кубрики и каюты.
На сей раз, отстав от своих, я прилип к тропиканцам. Петя Груца тащил нас в гору, где примостился среди зелени «Рок-Отель». Крутизна Скалы вынуждала шоссе свиваться в серпантин. На каком-то витке я отстал и спустился в сквер к бронзовым генералам, которых застал в обществе Струкова, Гришкевича и долговязого Тавкича, симпатичных сердцу подшкипера курсантов с первой вахты.
Парни были много моложе меня, однако это не помешало сложиться между нами товарищеским отношениям. Я знал, что на них можно положиться во всём, а понял это ещё до выхода в море, когда баркентины стояли у причала УЭЛа и принимали продукты. Курсанты тащили на борт коробки со сгущёнкой, и вот один «раздолбай» (по мнению Москаля, нашего артельщика) уронил в воду картонную тару, разом уменьшив на сорок банок норму «сладкой жизни» экипажа. Москаль, конечно, рвал и метал матюганы в адрес виновника, а старпом, услышавший его вопли, пригласил водолаза, благо спецбот стоял поблизости. Увы, затея сорвалась, так как работник глубин запросил за услугу такую сумму, что чиф поперхнулся и сказал жадине-говядине, что за эти деньги он «надоит две коробки молока». И тогда Гришкевич и Струков предложили свой вариант: они-де могут нырнуть и пошарить на дне, пока картон не размок, а банки не погрузились в грязь и тину.
Сомнение вызывала вода – грязная, замазученная: попробуй нашарить в ней коробку на глубине в четыре-пять метров. И всё-таки старпом разрешил им попытку «в порядке эксперимента». Одной попыткой дело не ограничилось, но сгущёнка в конце концов оказалась на палубе. Москаль, в виде премии, вручил ныряльщикам по банке, а когда они слегка очистились от грязи, Минин отправил обоих в баню, дав увольнительную до ноля часов.
Тавкич был из той же породы незаметных, но незаменимых людей. На том же причале лежал запасной винт, привезённый с завода двумя днями раньше. Он был довольно тяжёл, но невелик по размерам. Грузить его решили вручную, благо планширь «Меридиана» находился на одном уровне с причалом. Тавкич был в числе грузчиков, но в какой-то миг подкачал. Был слишком нетороплив, а нерасторопность в иных делах бывает наказуема: не успел убрать рукѝ – и винт размозжил ему пальцы. Врач Егорцев оказал первую помощь – это само собой, – но руку спасли родители курсанта, оказавшиеся хирургами. Однако же парня было решено списать: когда-то ещё он станет работоспособен?! И всё-таки Тавкич уговорил капитана и училищное начальство оставить его на судне. Оставили и не пожалели. У мыса Финистерре Николай уже работал на «бабафиге» вместе с Юрочкой Морозовым, который в отличие от двух других Морозовых, шёл под первым номером. Забавно было видеть крохотную фигуру Юрочки у правого нока бом-брам-рея, и Тавкича, эдакого Жака Паганеля, у левого. Разницу в весе компенсировали глухие топенанты рея, а чтобы рослый курсант не переваливался через него, опустили перт по длине его ног.
И теперь, когда мы вместе с бронзовым герцогом Веллингтоном созерцали ширь бухты, а также замершие в гавани крейсера и авианосец, появление запыхавшегося Юрочки было встречено «несмолкающими аплодисментами». Что ж, приятная компания! Теперь я не жалел уже, что от своих отстал и к тропиканцам не пристал, теперь я с удовольствием возглавил самостийный коллектив и повёл его «тропой самурая» на Мейн-Стрит, где он растворился среди ему подобных синих флотских воротников на белых форменках.
Оставшись один, я снова оказался не там и не в том месте. Время поджимало, а в моём кармане лежали ещё одни кастаньеты (на этот раз покрытые каким-то рисунком тореадорского пошиба), а подмышкой я прижимал к потному боку цветасто разрисованную книжеранцию «SHIPS: А Picture History In Colour», показавшуюся настолько необходимой, что я выложил за неё двенадцать шиллингов и шесть пенсов, что несколько утешило меня, ибо сумма, хотя и порастрясла мошну, показалась незначительной.
Из дальнейших торговых операций меня вырвал Стас Варнело, торопливо шагавший в порт.
– Мишка, ты ещё здесь? – удивился он. – Забыл, что через час шлюпочные гонки?
– Они меня не касаются, – ответил ему, но зашагал рядом, так как было любопытно, кто возьмёт верх в состязании ихних и наших школяров. – Боцман на борту, старшины… Вон, смотри, Фокич с коврами топает, а рядом Вахтин потеет с таким же грузом. Твой подшкипер Зайцев тоже, поди, не участвует в гребле?
– В гребле! – засмеялся Стас. – Он мастак только в… Сам знаешь, в чём!
А гонка не задалась, хотя началась довольно удачно для «Меридиана». У них вперёд вырвалась лишь одна шлюпка, с Ромкой Лочем. Фокич и Вахтин обставили остальных, которые, в свою очередь, показали кончик Медведю, но когда плавсредства поставили мачты и вздёрнули паруса, ветер скис, у поворотного буя началась толчея и свалка, в ход пошли отпорные крюки и вёсла. «Детский крик на лужайке», вынудил Чудова поднять сигнал: «Шлюпкам вернуться к борту».
Горевать о том, что выпадают волосы и редеют зубы, значит верить умиранию обманчивой видимости. Слышать, как поют птицы, и видеть, как распускаются цветы, значит постичь истинную природу всего сущего.
Хун ЦзычэнДебаты начались за обеденным столом, когда подруга сказала, что я похож на облысевшего вампира-пенсионера: на верхней челюсти остались только клыки, нижняя похожа на прореженный штакетник нашего палисадника, а макушка принимает облик предмета моего обожания и созерцания – глобуса.
– Лысина – те же кудри, только в последней стадии их развития, – метнул я в ответ афоризм, почерпнутый в незапамятные времена из канувшего в лету «Крокодила», и добавил вслед ещё один, из того же арсенала: – Он был молод душой, но в его кудрях, как луна в джунглях, светилась лысина. Что тебе больше нравится? Выбирай.
– Оба хороши. А щеку справа снова раздуло. Про зубы в твоём «глобусе» ничего не застряло?
– Застряло. Из Голсуорси: «Зубная боль – признак высокоразвитой культуры». В ближайшее время я намерен отправиться к местному зубодёру. Избавлюсь от «признаков» и стану добрым беззубым вампиром.
– И другом такого же беззубого Бахуса. Без признаков культуры, – съязвила она. – Ты оброс мхом, голубчик, и ракушки твои морские давно отвалились.
– Не трогай святого, женщина! При слове «культура», я хватаюсь за бутылку, а ракушки… Да, отвалились, но лежат рядом, на полке, – гордо изрёк я.
– А что толку, что рядом? В них пыль и труха. Главное, рядом с тобой я тоже зарастаю кухонной сажей и огородной пылью, – с горечью констатировала она. – Одна стирка чего стоит! Посмотри, во что превратились руки! Сравни их с цыпами из «ящика»: «Ведь я достойна этого!» – передразнила она рекламных див.
– Сравнила! Это же курицы! «Что же ты дала эпохе, живописная Лаура?» – сказал когда-то про них поэт-провидец. Вертеть задом, демонстрируя интимное исподнее, вещать о прокладках с крылышками и о перхоти, – это, по-твоему, подходящее занятие для уважающей себя женщины?
– Это, по-ихнему…
– Вот-вот! Ведь ты не какая-нибудь эта… Ксюшка Собчак или Фимочка Собак и разные… прости за грубость! гламурные пробляди. Что они вспомнят в старости? Как вертели передком? Как знавались с разными гомиками и денежными мешками, норовя цапнуть из них полными пригоршнями? Возьми хотя бы пресловутую «Рублёвку». Это ж обратная сторона луны! Тамошние антиподы ещё дальше от народа, чем декабристы, которые как-то думали о нём со своей кочки зрения. Зато вот эти руки, руки трудовые, руками золотыми назовут, – пропел я, зная, что не услышу аплодисментов, и добавил: – Хотя бы в нашем семейном кругу. Могла бы чаще навещать ребят. Им – в радость, тебе – отдушина.
– А ты здесь будешь обрастать мхом?
– Во-первых, во мху уютнее, а во-вторых, «люди в миру хотят жить весело, но из-за своего желания веселиться попадают в беду. Постигший истину не ищет радости, но в конце концов обретает её в тяготах», – известил я жену постным голосом старорежимного помпы.
– Господи, в кои-то веки услышать бы твоё собственное мнение! – вздохнула она и раздражённо всплеснула руками.
– Думаешь, я скажу лучше других? Да это и есть моё мнение в переводе с китайского. А эти мудрецы ещё в древности постигли суть вещей и тяготы нашей многострадальной перестройки. Может, мне лень выдумывать прописи. Пусть ими занимается Карламаркса под бдительным оком Дикарки. Я – старый пират, и мой девиз: «Сарынь на кичку! По господу богу, чем-нибудь тяжёлым, на два лаптя вправо… Огонь!»
Подруга забрала у меня пустую тарелку, брякнула на стол сковороду с жареными пластинами кабачков, в нутро которых был напичкан фарш, а подав вилку и нож, отозвалась на «Огонь!» огнём из своей фузеи:
– Во-во! Как был лопоухим лаптем, так лаптем и остался.
– И этим я горжусь, – ответил я гнусавым голосом Васисуалия Лоханкина. – Первый тайм мы уже отыграли, второй близится к концу, а счёт не в нашу пользу. Коли нас выбили за пределы аута вместе с мячом, самое время полежать на травке и подумать о своей роли в мировой эволюции.
– А всё потому, Михаил, – сказала подруга, – что у тебя р-редкая для России болезнь – дипсомания.
– Ого! И каковы же её симптомы?
– Периодический запой.
– Н-да… Болезнь для России действительно экзотическая, но, знаешь ли, есть в ней нечто утешительное: если я – дипсоман, значит, всё-таки не алкаш. А вообще, с чего ты на меня напустилась? С утра – шло как шло, а к обеду тебя прорвало.
Она не ответила. Обед закончили в молчании. Объяснение последовало, когда я поднялся из-за стола.
– Прости, Гараев, погорячилась. Довёл ты меня своим бездельем с китайской, вдобавок, приправой. Взялся бы снова за краски, что ли, а? «Шторм» у тебя вроде получился, почему бы и не продолжить в том же духе?
– Надоело мыть кисти, руки и рожу. И потом, мать, я теперь Лев Толстой и Ваня Дылдин в одном лице.
– Ты уже опростился до предела, но возможности ещё есть. Бороду отпусти, Дылдин, – посоветовала она. – Тогда хоть внешне будешь соответствовать классическому образу непротивленца.
– Борода не годится. Я же не гусиным пером пользуюсь, а пэ машинкой. Волосья будут в ней застревать, а в бороде – щи да каша, пища наша. Выковыривать надоест. И другая опасность есть: седина – в бороду, бес – в ребро.
Подруга хихикнула, я – «возмутился»:
– А что ты думаешь?! Я, конечно, прихрамываю и поскрипываю при ходьбе, но если меня прислонить к тёплой стенке…
– Уймись, Гараев. Всё равно Бахус сильнее беса, а он прислонит тебя не к тёплой стенке, а к «верстовому столбу». Я почему о кисточках-красках вспомнила? Когда ты занят ими, то всё-таки рядом со мной, а когда садишься за пимшмашинку, то снова уплываешь далеко-далеко, где кочуют туманы, а сам ты бродишь в них. Ты отсутствуешь, понятно тебе?
– А ты, когда я с красками и помазками, уезжаешь от меня…
– Пусть так. Проветрюсь и – обратно. Картина – это что-то осязаемое, а твоё нынешнее занятие…
– Писано вилами на воде? Наверное, ты права. Скорее всего, права. А что до живописи… Терёхин рассказывал, что в Суриковском они соревновались в сочинении эпиграмм на литераторов. Начали почему-то с Василия Каменского: «Искусству нужен Вэ Каменский, как жопе воздух деревенский». А после поэта пошло и пошло. Про Георгия Мдивани, который написал сценарий фильма «Солдат Иван Бровкин», в том же духе: «Искусству нужен Гэ Мдивани, как… сама понимаешь, гвоздики в диване». Ещё пример – татарин Хади Такташ: «Искусству нужен Ха Такташ, как… м-м… карандаш два-аш». Я к чему веду? Мне тоже досталось от Володьки: «Искусству нужен Эм Гараев, как попе меч от самураев».
– Ты слишком самокритичен, Михаил.
– А как же иначе?! Нужен ей меч катана, когда задница и без того разрублена пополам? А самомнением, дорогая, я никогда не страдал. Моих талантов достаточно, чтобы ублажить Дрискина, а в живописи надо либо быть Ван-Гогом, либо оставаться деревенским маляром. Никем!
– Кто был ничем, тот станет всем. При настойчивости, – заявила она.
– Ага! Вчера было рано, нынче уже поздно, а послезавтра можно сидеть на лавочке у двора и, уподобясь известному полковнику Буэндиа, ждать, когда мимо пронесут гроб с твоим телом. Ушёл вагончик, а вокзал остался.
– Тогда выброси и свой печатный станок! – буркнула она в сердцах. – Писательство тоже не шутейное дело. Куда ты со своей писаниной? Деньги у тебя есть, чтобы издать свою писанину?
– Денег нет, но хоть дети прочтут и узнают, какой их папаша оставил след на… воде, – извернулся я.
– Эх ты! – вздохнула она и рубанула по мне рубаи: – «Коль ценность ты, но кроешься во мгле – таких сокровищ много на земле».
– «На воде»! Вот стучу по клавишам и жду, когда мимо проплывут «Меридиан» с «Тропиком», а там, глядишь, и «Крузен», – высказал я заманчивое предположение. – Если не достучусь до них, так грош мне цена.
– Так ведь и раньше ты и твои приятели стоили не больше гроша, когда вы… как это у вас говорилось? «Сброситься по три рваных». Вместе с Бахусом.
– Да уж, без Бахуса не обойтись, – согласился я, но мелодия этого разговора уже утомила меня. – Сама знаешь, как рыбак ни бьётся, а к вечеру напьётся.
– Тьфу на тебя! – И, окончательно осерчав, подруга вышла, с грохотом захлопнув дверь.
Карламаркса поднял башку и, скребанув свалявшуюся бороду, подмигнул мне: мол, держись, хозяин, на свете два раза не умирать! Дикарка взглянула с укоризной, однако воздержалась от каких-либо комментариев. Всегда давала понять, что в наших семейных стычках она – сторона, ибо признавала только полный и абсолютный нейтралитет.
«Эхе-хе… не сходить ли к ландскнехту Сёме за косточками для верных друзей? – мелькнула спасительная мысль. – Пока хожу, подруга остынет, а там, глядишь, и мирный статус-кво возникнет сам собой».
И всё-таки благоразумие одержало верх. Ведь Сёмка обязательно выставит свой фирменный «samogon», и тогда не избежать шторма, а мужествовать с бурей не было у меня ни сил, ни желания. Лучше отстояться в тихой гавани и поберечь такелаж и рангоут.
Исполнившись благочестивых мыслей, я дёрнул за бороду Бахуса, уже с готовностью замершего у двери, и, сказав «брысь!», сел в углу за колченогий столик, взывая к прошлому, чтобы оно ниспослало мне способность отринуть постылые заботы нынешнего дня и, осенив своей вдохновенной десницей, перенесло на палубу «Меридиана»…
Любовь к морю у русского народа есть любовь к новым землям.
Марина Цветаева…и к заморским лавкам, добавил бы я.
Наши салаги были весьма осведомлёнными школярами и знали, где, что и почём, потому и пели-веселились, прощаясь со Скалой: «В тумане скрылась милая А-деса, золотые огоньки, не грустите нынче шопы, гёрлс и пальмы – возвратятся ры-баки-иии!» Да, эти ещё вернутся на Мейн-Стрит, а уже следующий выпуск мореплавателей будет отоваривать трудовые песо в другом месте. «Руски» траулеры перестанут заходить в Гибралтар. На Канарские острова переберётся мелкая шушера, что сбывала морякам залежалый ширпотреб. Теперь рыбаки будут «хватать» мохеровую пряжу и прочий дефицит в лавках архипелага (Магазин СОВИСПАН. Тингладо Муэльбе Ривера, тел. 274358, Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа и Хорхе Манрике,1, здание «Д. Кихоте», тел. 215044—215255, Санта-Крус-де-Тенерифе), где будет создана ремонтная база для советских тральцов и перевалочная для их экипажей, которые будут прилетать сюда и улетать отсюда на аэропланах, дабы их пароходы не тратили время на долгие переходы из Кёнига на промысел, а весь моторесурс уходил бы на добычу рыбы. Словом, летят перелётные птицы в осенней дали голубой, летят они в жаркие страны… etc.
А пока можно было петь и про маму Одессу, коли заморский Гибралтар не укладывается в рифму, и уже не слышны распевные крики мороженщиков: « Айс-кри-им! Айс-кри-иии-им!»
Ночь скрыла не только Скалу и огни Танжера. Уже отмигал маяк на мысе Спартель и зачернели на розовеющем утреннем небе зазубрины вершин Атласа, а начавшийся день баркентины встретили в виду Антиатласа под марокканским берегом и ветром, который припудрил палубы рыжей пылью Сахары, что дало повод литовцу Ранкайтису обозвать латыша Метерса «вождём красножопых». Полуголые курсанты действительно походили на индейцев, но их окрасила не пыль, а загар.
Кошка между прибалтами пробежала в Гибралтаре, когда стармех ткнул боцмана носом в ослабшие штаги фок-мачты. Майгон не согласился с доводами оппонента. Дошло до крика и махания рук с одной стороны и саркастического смеха с другой. Однако стоило Винцевичу удалиться, как Майгон призвал меня, вахтенного Медведя и, вооружив свайками, начал обтяжку стоячего такелажа всех мачт. Признав правоту бывшего боцмана, он больше не обращал внимания на остроты в свой адрес, от которых не мог удержаться стармех.
– Ты тоже вождь, – ответил Майгон обидчику. – Вождь черножопых. Пыль мы смоем и посмотрим, отмоются ли твои маслопупы до прихода в Дакар. Приходи, Винцевич, за мочалками и антинакипином – выдам без звука.
– Соляркой обойдусь и ветошью, а ты скребком поковыряй в ноздре и за ушами, – буркнул Ранкайтис, но больше не приставал.
На борьбу с пылью были брошены все силы. Только управились с рыжей грязью, как за мысом Драа снова влипли в ту же историю. Виновником «загара» стал местный «гарматан». Если он дул «весело и бодро», становилось прохладно, если слабел – наваливалась удушливая жара. Донимали также частые кратковременные шквалы. Они усложняли жизнь по ночам, когда за парусами нужен был глаз да глаз. Винцевич часто останавливал движок, ссылаясь на неполадки. По-моему, механик хитрил: коли есть ветер, используйте его силу, а технику и керосин надо беречь. И тут я был целиком на его стороне. Пока что мы не расставались с парусами. Разве что к ночи, опять же из-за неожиданных шквалов, убирали брамсели и топсели.
С начала рейса я жил если не как во сне, то в особом и непривычном состоянии, с совершенно новыми ощущениями. Взять хотя бы бесшумное и стремительное скольжение в Бискайе! Вроде бы и раньше случались подобные дни, когда баркентина – с вырубленным болиндером – шла под одними парусами. Может, память специально подсунула неспокойный залив, в котором до того приходилось только бултыхаться с борта на борт, когда толчея волн, казалось, грозила опрокинуть пароход? Но теперь!.. От самого Уэссана мы шли с попутным ветром до мыса Рока под распахнутыми крыльями парусов. Тишину нарушали одни лишь всплески под форштевнем, шуршание водяных струй за бортом, да редкие удары блока фор-стаксель шкота о релинг или жестянку ходового огня. Иногда, будто ненароком, звякнет на баке колокол или скрипнет бейфут грузного фока-рея, да вдруг чей-то голос или смех нарушит дремоту солнечного дня. Пройдёшься босыми ногами по влажной палубе, оттёртой песком, торцами и кирпичами после мокрой приборки, окинешь взглядом мачты, чьи белые флагштоки слегка покачиваются в синеве небес, и… и начинаешь верить, что сказки, как сказал писатель, ещё живут на земле.
Когда расстались с африканской пылью, «Тропик» лёг в дрейф. Мы тотчас последовали его примеру, ибо приказ «Команде купаться!» касался и нас.
Танкер ещё накануне ушёл в Дакар, «Тропик» – в двух кабельтовых. Тут и там спущены на воду дежурные шлюпки, прямые паруса баркентин, взятые на гордени и гитовы, покачивают свои фестоны. У соседей разрешено нырять с нижних рей, нам такая роскошь не позволена. Нам нельзя даже с планширя. Букин неумолим в своих строгостях. Прежде чем отпустить людей поплескаться в солёной воде, их, в плавках и башмаках, выстраивают на переходном мостике, затем… Затем башмаки остаются в строю, а школяры по шторм-трапу спускаются за борт с – страшно подумать! – с «огромной высоты» в неполных два метра. Однако никто не бунтует. Все рады возможности как бы остаться один на один с океаном. Остаться за бортом по своей воле.
В какой-то миг «Тропик» оказался на расстоянии, позволявшем, не напрягая голоса, пообщаться с приятелями. Стас, как и я, только что вылезший на палубу из «солёной купели», выглядел бронзовым истуканом, вокруг которого толпились мокрые идолопоклонники. Петя Груца тоже смотрелся великолепно, но штурман поигрывал белыми мышцами. Согласно табели о рангах, ему приходилось париться в одежде, а сегодняшний день – редкое исключение.