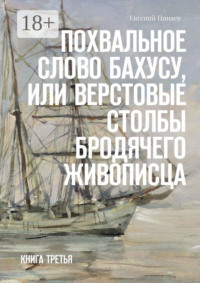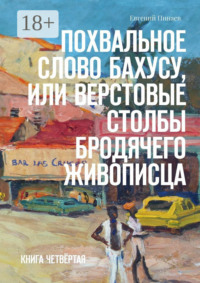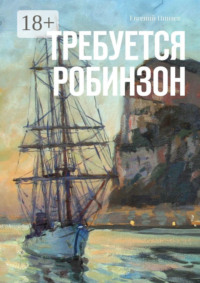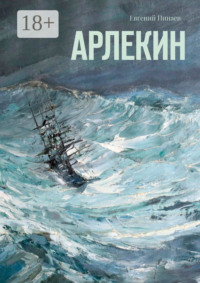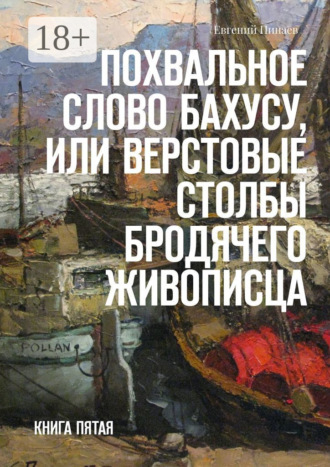
Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца. Книга пятая
– Но речь сейчас не о том, – закончил я примирительный спич. – Речь о том, что каждый кулик хвалит своё болото, и каждый кулик по-своему прав. Так что, господа, давайте пожмём друг другу руки и в дальний… и выпьем за процветание «цитадели» и «терема». А если не возражаете, то и за мою хижину тяпнем. Она тоже имеет право на существование. Я как домовладелец не приветствую лозунг «мир хижинам, война дворцам».
В мире и согласии обезглавили мы четвёртую бутылку, но я вдруг сообразил, что на сегодня с меня хватит, что она, четвёртая, в сущности, верстовой столб, вокруг которого в этот вечер больше не стоит водить хоровод. Тем более, что был в нём третьим лишним. Собутыльники, забыв копеечный спор, окончательно помирились и уже горячо обсуждали какое-то совместное дельце. Глядя на эту идиллию, я понял, что далёк от них, как декабристы от народа. В тот же миг ощутил я эдакий сердечный спазм и ком в горле: впереди – пустота! А если сделать шажок назад, в прошлое, то… то можно вновь оказаться на палубе «Крузенштерна». Выспаться, взбодриться, а после – шагнуть. И пусть мне милее «Меридиан», но «Крузен» ближе во времени и пространстве. К тому же, я отдал дань «Меридиану», посвятив ему немало страниц, а ведь на «Крузене» тоже были счастливые дни. Под его мачтами я снова встретил Юрия Иваныча Минина и Лео Островского. И Рич Сергеев, которому сдавал когда-то «Меридиан» со всеми потрохами и боцманскими заботами, тоже оказался на «Крузене» вместе с матросом Женькой Базецким, покинувшим «Капеллу» вместе с Ричем.
Я решился! Я мужественно встал на резвы ноженьки и, утвердившись в вертикали, провозгласил отчётливо и вдохновенно свой последний тост за тот случай, который «нам на душу отрадное дохнёт, минувшим нас обвеет и обнимет и сладкий груз минутно приподнимет». Его то ли не расслышали, то ли не обратили внимания.
Ладно, чихал я на вас вместе с дебитом-кредитом и всякими авизо на постном масле!
Пущай я сейчас «осетрина второй свежести», но завтра нырну в сугроб без портков, а вынырну до того свеженьким, что за письменный стол сяду, дыша первосортными жабрами.
И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай,
Косить пошёл – покашивай,
Поехал – поезжай…
Александр ТвардовскийМоря-океаны и «Козерог» остались в прошлом. Кёниг и Светлый – тоже за кормой. Легко ли было покидать привычное? С кровью. С треском. Когда уволился Филя Бреус, кадры в меня вцепились: принимай пароход и боцмани на здоровье. Отверг сходу: но пасаран! Во-первых, такое однажды уже было на «Лермонтове». Принял у тёзки Мишки Курылёва боцманские вериги, а пришёл на пароход старый кеп, и – кранты: вернул Мишку, а я оказался на биче. Во-вторых, дал я жене кровную клятву стать сухопутным крабом, а в-третьих, наше барахлишко уже двигалось малой скоростью на Урал. За ним, с курьерской скоростью, вскоре последовали и мы. Было ощущение, что еду в отпуск, впервые – с женой и сыном. Словом, Одиссей возвращался в Итаку.
На Урале наступили хлопотные дни. С жильём и трудоустройством, к счастью, обошлось: то и другое нашлось довольно быстро. Жить определились на частной квартире. С пропиской помог Давид Маркович Ионин, некогда вызволивший раба «Трудовых резервов» из 42-й ремеслухи. Старый товарищ Алька Туманов, сам отведавший на востоке морской соли, посоветовал идти к ним, на телестудию, декоратором.
Однако быт и рабочая лямка – дело привычное для каждого «хомо советикуса» и вовсе не обязательно, чтобы он был шибко «сапиенсом». Так что нет смысла мусолить словеса, затёртые до трюизма, на эту тему. Зато, господа-товарищи, долгожданная встреча старых другарей, эт-то, скажу вам, совсем другой табак! О, воспоминания! И нет ничего странного в том, что мы, Охлупин, Терёхин и я, привязав своих росинантов к верстовому столбу и поручив их заботам неунывающего старпёра Бахуса, заговорили не о днях, близких нынешним, а обратили взоры к тем временам, когда рванули на «москвичонке» Аркаши по Московскому тракту, держа курс на Каму и далее – на Орёл-городок, где в ту пору жили мои родители и братишка.
– Было же времечко, а?! Втроём, дружно! – пустил слезу холерик Терёхин.
– Дружно, говоришь? Мы ещё только загружали машину походными пожитками…
– Весь день провозились, помню, – вздохнул Аркаша.
– Вот-вот – весь день! И весь этот день, Владимир Алексеич, ты меня какими только «титулами» не награждал! И самыми безобидными были «дурак» да «идиот».
– Неужели было?! – изумился Терёхин.
– Себя не знаешь, Володька? – напомнил Аркаша. – Ты и меня достал, а угомонился только в полночь, когда выехали из города. Скис, а мы спокойно отмахали первые двести километров.
– А что вам – бугаи! А я худ. У меня – сердце, у меня…
– Не насморк, так понос, – добил Аркаша этого барбоса.
– Да-а… ну, извиняюсь задним числом, – повинился Терёхин и тут же напустился на меня: – А ты, Мишка, зачем помнишь всё это?! И неужели помнишь до сих пор?!
– Запомнилось. Потому что моё участие в экспедиции могло закончиться уже в Молотове, то бишь в Перми, – решил я наконец высказаться, после стольких лет. – Помните, добирались до Лёвшино, где должны были погрузиться на пароход?
– А дорога – ухаб на ухабе, – вставил Аркадий: шофёр всегда помнит дорогу.
– О том и говорю, – кивнул я. – Это меня и спасло. Этот господин на тебя, Аркаша, набросился: «Не гони! Ты совсем обалдел! Баранку держать не можешь! Сломаешь рессоры! Да не гони, говорю! Не рискуй зря! Опять у тебя скорость шестьдесят километров!»
Я не выдержал и захохотал, когда эти двое уже хохотали.
– Ну-ну, а что дальше? – напомнил Аркаша, когда добавили ещё по стопарю и налили по новой. – Знаешь, это становится интересно. А я вот помню лишь то, как нас встречали в пермском Союзе художников – восторг! «Вот здорово! Вот как надо ездить на этюды!» – орали со всех сторон. Но ты продолжай, продолжай.
– Продолжаю. Приехали, а пароход нас взять уже не мог. Пока тряслись по ухабам, вместо «москвича» погрузили четыре тонны проволоки в лацпорт.
– Склоняю голову: если такую мелочь запомнил, то принимаю без разговоров всё, что скажешь в мой адрес, – повинился Терёхин.
Он мог так, когда хотел. И вообще был отходчив.
– Потом пришла «Башреспублика», оформили документы, погрузились, – продолжал я своё повествование, – а до отхода ещё двенадцать часов. Я решил махнуть к тётке в Гайву. Тебя звал, Владимир Алексеич, а ты отказался. Как раз и катер шёл туда – отчалил я, а там, в Гремячем – это та же Гайва – узнал на причале, что обратный катер идёт в восемь, а пароход уходит в десять. Успею, думаю, и в половине восьмого явился на дебаркадер. Тут-то всё и началось. Дежурный сказал, что катер в Лёвшино пойдёт только в девять, да и то с заходом в Заозёрье. Мотай, мол, парень, в Заозёрье – там и сядешь на свой пароход, а если до Лёвшино, опоздаешь. Я аж зубами заскрипел. Ну, дела, – думаю, – съездил в гости! А рядом какие-то катера стоят. Поспрошал у мужиков – не бегут ли до Лёвшино? Никто! Я уже намылился обратно к тётке, а меня догоняет моторист с самого маленького: «Сколько дашь?» «Пол-литру», – говорю, а у самого в кармане рупь.
– Что-то начинаю припоминать, – сдвинул брови Володька.
– Я тоже, – покивал и Аркаша.
– Тогда закругляюсь. Бухнулся я вам в ноги: «Подайте, Христа ради, двадцать пять тугриков! После объясню, в чём дело!» Подали. Расплатился с извозчиком, вернулся к нашему автофургону, и вот тут ты, Володя, и принялся за меня: «Нам барыг не надо, мы барыг привыкли…» «Так я тебе отдам в Орле!» «В Орле вообще всё будем считать, а нам барыг не надо!» И так далее. Я плюнул и ушёл на корму. Словом, злость и обида! Так и просидел ночь – курил и дулся. Главное, не знал, как поступить. Если начну считать, сколько с меня причитается за всё про всё и отвалю в сторону, значит, вы ко мне не поедете, лето – в жопе, а я – первейший засранец: такое дело сорвал! Утром был у нас с тобой тяжелейший разговор…
– Ни черта не помню!
– Ты пытался мне объяснить, почему я барыга, я пытался тебя понять, но так ничего и не понял. Впрочем, мир мы заключили, и то хорошо.
– А сейчас, Мишенька, что думаешь по этому поводу? – спросил, подливая в стаканы, Володя.– Как оцениваешь себя и нас?
– Думаю, был я в ту пору порядочным лоботрясом, а вы… Вы, наверное, пытались выбить из меня молодую дурь.
«В механике существует понятие „коэффициент полезности“. Так вот, у человека этот „коэффициент полезности“ ничтожен. Мы ужасаемся, когда узнаём, что паровоз выпускает на воздух без всякой пользы чуть ли не восемьдесят процентов пара, который он вырабатывает, но нас не пугает, что мы сами „выпускаем на воздух“ девять десятых своей жизни без всякой пользы и радости для себя и окружающих». Это Паустовский заметил, и заметил вполне справедливо. Думаю теперь, что мне доставалось на орехи именно за пустопорожний «пар», выпущенный в воздух.
– Кончайте, мужики, рыться в старом тряпье, – сказал Аркаша. – Когда это было? Ведь следующим летом, и снова втроём, на Алтай покатили.
– И снова ругались, мирились, снова ругались и снова мирились, – засмеялся я, – а потом я оказался в Мурманске, далее – везде.
– И вот, блудный друг наш, ты снова вернулся на круги своя.
– Больше никуда не сбежишь? – спросил Аркадий.
– А это как карта ляжет, – ответил в полной уверенности, что карта ляжет теперь не скоро. Если вообще ляжет.
Воспоминанья слишком давят плечи,
Я о земном заплачу и в раю…
Марина ЦветаеваЭти строчки Цветаевой я слизал у Паустовского, когда перечитывал «Книгу скитаний» с таким же эпиграфом. Не смог удержаться – уж больно в жилу! Так получилось, что уральский воздух был напитан прошлым, которое напоминало о себе на каждом шагу. А слизал вынужденно. Своими книгами уже воспользоваться не мог, так как они исчезли вместе с полками по причине… Не хочется говорить о причине в этот раз, но благовидный предлог воспользоваться чужой мыслью, даже полученной из вторых рук, появился, вот и…
Но ближе к делу. Как Хваля тянул лямку на «Диафильме», так и я отбывал часы на студии, выполняя с такими же тружениками кисти заявки телережиссёров. Особого энтузиазма не испытывал. В душе всё ещё звучал «ветер дальних странствий» и пели волны, в глазах бурлил и пенился кильватерный след, но в снах меня посещали почему-то не Филя Бреус или штурман Вечеслов, недавние соплаватели, а Коля Клопов или курсанты. Те, отношения с которыми и после «Меридиана» остались добрыми и приятельскими. Это, прежде всего, Толя Камкин, Моисеев, Ярандин, Кухарев и Женька Трегубов со своим баяном. И не только они, не только они… Все в синих робах х/б, словно собирались сдавать зачёт по такелажному делу или по знанию снастей.
Но жизнь брала своё. Новые времена – новые песни. В свободное время пытался что-то писать, но брался, само собой, за морскую тематику. Знал, что не похвалят, но спешил запечатлеть, пока Урал не стёр море из моей памяти своими лохматыми елями. И вообще, плевал я на указки! Всё равно никогда не напишу то, чего не хочу. Пущай газеты ратуют за связь с народом, идейность в духе соцреализма – к чёрту! Всё это пустые слова. Искусство субъективно, а художник обязан изображать то, что прошло через сердце. Море для меня – кусок жизни, а чужие берега оставили в моей биографии след, который хотелось перенести на холст.
Терёхин мастерской уже не имел. Правление отобрало, посчитав, что она использовалась не по назначению. Его шикарный мольберт, сделанный под заказ, стоял в алтарной части бывшего храма, в котором располагались художественные мастерские. Теперь им пользовались все, кому заблагорассудится. У него был шкаф на третьем этаже, стол и все не занятые производственной текучкой метражи мастерских, где бы он мог расположиться для творческой работы. Уже при мне он писал свой последний большой холст «1905 год» в выставочном зальце Дома художника, взгромоздив его на стулья и прислонив к стене. Охлупина тоже наказали. Отобрали просторное помещение на Декабристов, но хотя бы дали «малолитражную» комнату в Доме художника. Кажется, произошла рокировка с Алексеем Бурлаковым, обильно покрывавшим краской большие холсты. Аркаша предложил мне работать у него, но пока в этом не было надобности, а кроме того я видел, каково приходится хозяину на том пятачке, где не нашлось бы места даже для лишнего стула.
Как и во всяком творческом союзе, в здешнем тоже имелись течения и противотечения, группы по интересам, теснившиеся возле кормушки заказов. Молодые и более ухватистые отпихивали и спихивали старичков с «корабля современности». Напора у них хватало. Я знал это и раньше, знал по Москве и Кёнигу. И вообще, я ещё не акклиматизировался и не созрел для чего-то серьёзного, а для небольших начинаний хватало места на Железнодорожников, где, правда, было темновато: окна выходили в старый густой сад, за которым высился сарай, поэтому в комнате даже в солнечный день царил полумрак.
Акклиматизация в творческом плане требовала знакомства с творческой средой ареала обитания. Так сказать, со здешней флорой и фауной. Начал с выставки Бориса Витомского в картинной галерее. Она не поразила воображение. Всё было в русле времени, то есть «всё путём», добротно, а значит, обычно. Но этюд «Карское море» навёл на размышления: по меридиану оно находилось довольно близко [от Свердловска]. Не слишком близко, но довольно и того, что оно всё ж таки было достижимо при некотором усилии, расходе средств и энергии.
Однажды Терёхин привёл меня к своему брату Роману. За бутылкой разговорились о картах, разумеется, географических. Ромка достал пятивёрстку Урала, напечатанную ещё в сорок пятом году.
– А ты можешь достать такую же для приполярных мест? – спросил я.
– А зачем тебе? – спросил он.
– Да вот, – говорю, – я и твой брательник решили стать землепроходимцами и героями Арктики. Позарез нужно к белым медведям!
– Возьмите меня! – загорелся Роман. – Я же в УФАНе работаю, а за Салехардом есть наша база, у базы – катер. Возьмём письмо из УФАНа и закатимся!
– А куда ходит катер?
– По всей Обской губе ползает, вплоть до острова Белый.
Ударили по рукам, но «героями Арктики» мы не стали.
Дня через два после «судьбоносного» разговора мне повстречался Давид Ионин. Председатель правления творческого союза вдруг предложил устроить «среду» в Доме художника.
– Надеюсь, ты не зря болтался по свету? – спросил Давид. – Есть что показать?
– Вроде есть…
– Стыдно не будет?
– Стыд глаза не выест! – ухмыльнулся я.
– Мне выест, Миша, не тебе! – хохотнул он.
– Давид Маркович, а вы зайдите ко мне на квартиру, – предложил я. – Посмотрите, а после решите, стоит ли овчинка выделки.
– Нет, Михаил, уволь. Всё принесёшь в Союз, но если я заверну оглобли, не обижайся. И поторопись, пока наш зал пустует.
Давид дал добро; Серёжка Архипов, соратник по телецеху, испачкал чёрной краской лист ватмана – и в мастерских худфонда появилось объявление-извещение о «среде». Я сам прикнопил его. Возле него и выловил меня записной остряк Николай Алёхин.
– Мишка, а ты оказывается живой?! – завопил он, хлопая себя по ляжкам. – А мы читаем бумагу, в глазах черно от траура, от слёз глаза и вовсе ослепли. Поняли, что похороны в среду и кинулись заказывать гроб и венки.
– С гробом, Никола, вы поторопились, а венки сгодятся. Только лавровые закажите.
– Не венки, а венок. Тебе и одного хватит, чтоб варить супы до конца жизни.
На развеску ушёл день. Помогали Терёхин, Аркаша, Саша Немиров, Виктор Пьянков и Коля Собакин, а также «соратники»: Архипов, Алька Туманов и Эдик Захаров. Бригада собралась большая, но Охлупин и Терёхин правили железной рукой, поэтому обошлось без дискуссий и лишней беготни. Только управились – появился Фёдор Шмелёв, которого я совсем не ждал в этот вечер, да ещё в поздний час. Вообще опасался встречи с ним. Думал, он припомнит мне побег с пятого курса училища, а заодно и ретираду из Суриковки. Однако Фёдор придерживался принципа «кто старое вспомнит, тому глаз вон». Он медленно шёл вдоль стен с этюдами и парой законченных холстов, я следовал в кильватере и, слушая его, мотал на ус.
– Я думал, что должно быть неплохо, но не думал, что так хорошо… – бормотал Шмелёв, не оборачиваясь ко мне. – На месте Союза я бы дал вам, Миша, побольше денег и отправил писать, куда пожелаешь… Нужно бросить эту вашу телестудию и работать, работать, работать… и отказаться от кое-чего… да, отказаться от стакана портвейна каждый день, от «Волги», от трёхкомнатной квартиры…
«Эх, Фёдор Константиныч, вашими бы устами да мёд пить, – думал я, фиксируя пожелания. – Денег мне не видать как своих ушей, „Волги“ мне и даром не надо, а кто же откажется от квартиры? Только святой или круглый дурак. Я, может, и дурак, но не круглый, а угловатый…»
– Пройдёшь по иной выставке, – продолжал ворковать старик, – и ничего не увидишь. Нет ничего на ней, вот какие дела. У тебя, Миша, чувствуется душа: работы волнуют.
Я – не спорю – млел от этих слов. Во-первых, Фёдор продолжал оставаться для меня бесспорным авторитетом, во-вторых, он как бы подтверждал слова Аркадия Охлупина, сказанные ещё до развески, когда этюды стояли вдоль стен: «Твою выставку надо бы на место Витомского, в галерею, а его – сюда». Домой летел, как на крыльях, или, что лучше, на всех парусах – под парусами надежды на то, что если и будут ругать на обсуждении, то не шибко.
«Среда» не стала однодневкой. По словам Ионина, «она заслуживала внимания». Выставка висела уже месяц, а обсуждение откладывалось со дня на день. Он жалел, что не дал афишу на улицу, ограничился объявлением в Доме художника. Зато, сказал Давид, расскажем о ней в «Вечёрке» и пригласим телеоператора для подачи в эфир, тем более выставкой заинтересовался Борис Павловский. Мол, хочет на обсуждении толкнуть речь. Подруга подсмеивалась надо мной: «Любишь, Гараев, когда тебя хвалят!» Гм, люблю ли? Люблю не люблю, а приятно, если людям нравится сделанное тобой. Для чего-то же я бросил море?! Ведь не для того, чтоб меня ругали! Пошёл второй месяц, начался август. Я начал думать, что обсуждения не будет и ждал команды убирать выставку. Но позвонили в цех из телевизионных новостей: «Зайдите, мы отсняли вашу выставку, надо сказать для эфира пару слов». Зашёл. Сказал две пары, в том числе названия работ уточнил. Пожаловался оператору на тянучку с обсуждением, но тот заверил меня, что обязательно будет. Однако сначала Ионин уехал в командировку, потом умер художник Вахонин. Гроб стоял среди моих марин. После похорон встретил во дворе Дома Александра Бурака. Мэтр впервые сам изволил заметить меня и приласкать. И это при том, что на открытии выставки он ничего не сказал в мой адрес, а напустился ни с того ни с сего на Володьку Мамонтова.
– Молодец, Гараев, молодец! Оч-чень интересно, много повидал и даже кое-чего добился. Я, правда, смог только пробежать, мельком взглянуть, но обязательно посмотрю более внимательно.
«Этот, кажется, ругать меня не будет», – резюмировал я, готовясь к завтрашнему дню, ибо Ионин сказал, что больше с обсуждением тянуть нельзя.
И оно наконец состоялось.
Зал, на удивление, был полон! Я сидел ни жив ни мёртв и, само собой, волновался пуще, чем на парткомиссии, когда открывали загранвизу. Основные оппоненты, которые задавали тон всем выступлениям, Бурак, Гаев, Друзин, Белянкин, Ионин, Витомский, Ефимов говорили примерно одно и тоже. Начал Друзин.
– Знаю Гараева ещё по художественному ремесленному училищу. Он и тогда много работал. Потом встретились в Суриковском институте. Сбежал из него Михаил, но, думаю теперь, правильно сделал, что сбежал, – рубанул Володя. – На стенах, в основном, одни этюды, и это понятно – походный материал. Но этюды крепкие, и я не обиделся, – он засмеялся, – когда Гараев не подарил мне вон тот этюд с деревянным траулером на ремонте. Впереди настоящая работа, а этюд – рабочий материал. Словом, выставка состоялась. Миша, поздравляю тебя.
– А может Гараеву всё-таки следует закончить институт? – начал с вопроса Бурак. – Я боюсь, как бы всё это не оказалось мыльным пузырём: сверкнул, лопнул и исчез. Гараеву ещё предстоит найти себя. Есть живопись? Есть. Есть графика? Есть. Рисунки? Тоже есть. Так надо на чём-то остановиться. И тематика… Море, конечно, у него получается замечательно, корабли и всё такое, но мы живём на Урале, а что, если подумать, покажет Гараев на выставке «Урал социалистический»? Снова море? А чем он отразит наш край? Нет, товарищи, промышленный Урал, опорный край державы, требует от нас, живущих здесь, особого подхода к теме. К нашей теме! Надо Михаилу определиться с ней и, повторяю, остановиться на чём-то конкретном.
– Что тут останавливаться?! – вскочил Гаев. – Живописца видно сразу – пусть пишет, как пишется. И потом, почему обязательно Урал? Почему на Урале не может быть своего мариниста? Что это за особая такая вотчина – Урал? Человек любит море, его чувствует и понимает, так пусть и пишет его.
Выступали ещё и ещё. Равнодушных не было. А итог подвёл Ионин, сказав, что Гараев явный живописец, он наш, мы его знаем давно, и мы ему, в случае чего, всегда поможем.
– Взять да и принять его в кандидаты, – подсказал Охлупин.
– Аркадий, – повернулся к нему Давид, – не стоит об этом говорить. Ты знаешь не хуже меня, что для кандидатства нужно участвовать на выставках хотя бы городского и областного масштаба. А уж там, дальше, на зональных и республиканских. В художественные мастерские его направим хоть завтра, а пока… Завтра сфотографируем часть работ, фотоснимки отправим в руководящие органы Союза художников на предмет предоставления творческой дачи в Хосте, Паланге или Майори, а часть выставки, работ сорок, покажем в Белоярке, в Доме культуры райцентра. Этим и положим начало. Остальное зависит от самого Гараева.
Так начался первый год сухопутного периода моей жизни, а заканчивал я этот год на славной реке Волхов, в Старой Ладоге – городе на пути из варяг в греки.
Живописец должен изображать не то, что видит, а то, что будет увидено.
Поль ВалериТворческая дача занимала флигеля и строения бывшего поместья князя Шаховского на левом берегу Волхова.
С нашего, дачного, берега город Старая Ладога был виден как на ладони. Солнце вставало на нашей стороне, а заходило за городом, на том берегу. Оно опускалось за крышами, за куполами многочисленных церквей и пропадало окончательно за дальними полями и перелесками. И тогда древний храм, родной брат того, что высится на Нерли, почти сливался с берегом и купами голых деревьев, и только его одинокая маковка чётким силуэтом очерчивалась на фоне вечерних облаков. Отделённый притоком реки от городских строений, он стоял на высоком мысу, рядом с восстанавливаемой древней крепостью. Поблизости находился и курган, о котором говорят, как о могиле легендарного князя Олега.
– Здесь коренная Русь, – гордо заявил учитель Виноградов, местный гид и знаток всех достопримечательностей. – Пусть говорят про Киев, что хотят, но там Русь Киевская, а здесь, товарищи художники, своя, доподлинная.
– Кондовая, посконная, лапотная и домотканая, – вторя ему, добавил Юра Кузнецов, с которым мы соседствовали кроватями в спальном корпусе и мольбертами в мастерской на четыре персоны. Юра был знаком с Жекой Лаврентьевым, так как членствовал в том же областном союзе художников. Это сблизило нас. К тому же Кузнецов был живописцем со своим почерком. Я называл его «реалистом с левым уклоном», в отличие от Лены Рукавишниковой из Ярославля, которая была «оппортунистка чистой воды». Её мольберт стоял у окна, где творил и москвич Иосиф Рывкин. Этюды она писала, всегда уединившись, но в свободное время повсюду шлялась только с Кузнецовым и со мной, а мы забирались и в лесные дебри, и в деревню Чернавино (родину академика Максимова, автора картины «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу»), однажды, помнится, плутали по каким-то оврагам, а после, близ Волхова, набрели на осыпавшиеся, поросшие травой окопы. Река катила внизу стылые осенние воды, траншеи были полны палой листвы, а левее, на том берегу, высилась самая крайняя церковь Старой Ладоги. Всё остальное скрывал изгиб реки, её высокий берег, ощетинившийся кустарником. Тогда мы впервые заговорили о живописи. Каждый понимал её по-своему, каждый защищал свой «окоп» до последнего патрона.
Впрочем, всё это было позже.
Общая мастерская сблизила нас. Соседи, даже молчаливый Иосиф, не роптали, когда я начинал «вокалить» свой устоявшийся репертуар. А состоял он из песен Вильки Гонта, и в основном, орал я «В нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана, в таверне веселились моряки и пили за здоровье капитана». Закончив одну «корабляцкую» песню, начинал другую, о «Жаннетте», которая «в Кейптаунском порту, с какао на борту» уже давно, с моего ушедшего в далёкое прошлое детства, всё «поправляла такелаж». Я как-то спросил сотоварищей, не мешают ли им мои вопли, и оказалось, что им «песня строить и жить помогает» их своеобразные композиции, потому как в них, в песнях моих, нет «вонючего соцреализма». С тех пор, стоило мне открыть рот, Лена извещала, что «пираты затаили все дыханье».