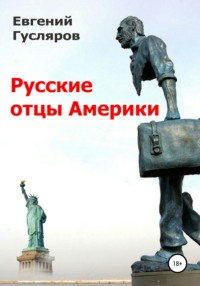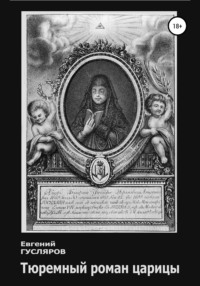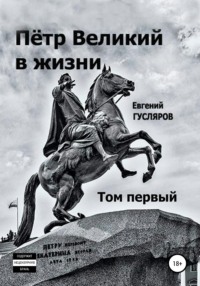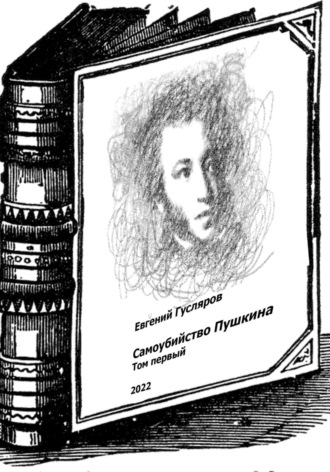
Самоубийство Пушкина. Том первый
Северном Кавказе. Теракт 9 мая в Каспийске, страшное крушение вертолёта над Ханкалой… Даже сход ледника в Кармадоне, казалось, укладывается в некую зловещую последовательность событий. Трагичной кульминацией стали события 23 октября в московском ДК «Подшипник» на Дубровке.
2014 – Антиправительственный переворот на Украине, вызвавший в 2022-ом году
решение России о военной спецоперации.
2026
Лжедмитрий растерзан был в мае 1606 года. Смута, конечно, копилась заранее. Цифры, которые получились у меня, особенно последние, выглядели бы гораздо красноречивее, если бы сдвинуть время на четыре-пять месяцев вспять. Поскольку для истории эти четыре-пять месяцев не играют абсолютно никакой роли – то я и пренебрегу ими. Тогда ряд этот, начатый с конца, становится в высшей степени соответствующим нашим предположениям.
1989 – страна переживает волну всем известных потрясений и распада.
1977 – начало «афганской войны».
1965 – застойная аномалия.
1953 – смерть Сталина.
1941 – нападение Гитлера на СССР.
1929 – начало «большого террора» в истории СССР.
1917 – октябрьский переворот.
1905 – вооружённые выступления рабочих – «репетиция революции».
Дальнейший ряд предоставим проследить любопытным нашим читателям. Если что-то и не совпадёт, от работы такой останется хотя бы та польза, что подробно повторим своё знание истории Отечества.
…А как стойки во времени черты суеверия, доказывает случай, потрясший в 1989 году один из довольно крупных дальневосточных городов. Здесь умерла восемнадцатилетняя девушка Рина Грушева, которая стала выходить из могилы, взбудоражив тихую жизнь здешнего захолустья.
«20 июля, вечером, жительница города Кирина Мария Петровна понесла мусор во двор. Как она потом рассказывала, у неё закружилась голова, минут пять она постояла в подъезде, затем подошла к мусорному ящику, подняла крышку и… “О, господи, в ящике, на груде мусора, лежала голая девушка… как большая кукла! Тело ее было сплошь в синих пятнах, а в руках зажата иконка”».
Подобное повторялось несколько раз и в разных местах в момент прославившегося городка. Как это похоже на страсти вокруг давних похорон молодого русского царя Лжедмитрия I.
Ночами жители городской окраины видели яркий огонь костра на кладбище, где погребена была Рина Грушева. Разжигали костёр подростки, объединившиеся с жуткой целью вызвать мёртвую из могилы. «Рина, возьми нашу кровь», – заклинали они. «Встань, Рина. Настал срок. Пусть будет так!». Покачиваясь в такт словам, сжимали и разжимали кулаки, как это делается, чтобы усилить давление в венах, и из порезанных рук, стекая по вытянутым пальцам, в могильную землю впитывалась кровь. Мрачная эта картина говорит о том, как легко вернуть человека в дремучее его состояние.
Ну вот, скажут, тосковал о потерянном, звал искать и возвращать праздничное и трогательное из, может быть, уже невозвратного народного достояния, а пришёл к неуместному обличению. Начинал за здравие, а кончил за упокой.
Все не так. Суеверие, новым воинствующим сознанием своим (которое теперь оказалось нам ни к чему), почитали мы всегда дикостью. В этом, впрочем, был и остаётся резон. Ныне нам предстоит, хочется верить в то, радостная работа отделять дикость от красоты. То, что напирает на нас сейчас со всех сторон – это больше дикость. О красоте пока никто не вспомнил. Пусть в этом бессмертная пушкинская душа будет нам безошибочным указчиком.
То, что он отобрал когда-то для себя, и нам, буду думать, сгодится. Для того, собственно, и велось это долгое, не во всём серьёзное писание.
Пора заканчивать. Но конец этот будет несколько насильственный. Написавши сотни две страниц и начиная подумывать, что пора бы уже и точку где-то ставить, обнаружил вдруг, что повествование это вполне может обернуться бесконечной книгой. Я, конечно, не угрожаю этим. Я передаю своё ощущение… И еще, есть у меня такое чувство, что все это вскоре станет нам нужно. Как забава и знание, но еще больше – как память о поколениях предков, не напрасно живших и не напрасно придумавших все это.
Так бесхитростные разговоры матери оборачиваются со временем единственной достойной мудростью, потому что в них обнаружим мы весь опыт прежних времён…
В черновиках, в дневниках, в прочих бумагах Пушкина встречаются записи, которые частично могут определить нам круг его мыслей. Многие касаются интересующей нас темы.
Выпишем их здесь для сведения.
«Когда родился Иван Антонович, то императрица Анна Иоанновна послала к Эйлеру приказание составить гороскоп новорождённому. Эйлер сначала отказывался, но принужден был повиноваться. Он занялся гороскопом вместе с другим академиком, и, как добросовестные немцы, они составили его по всем правилам астрологии, хоть и не верили ей. Заключение, выведенное ими, ужаснуло обоих математиков – и они послали императрице другой гороскоп, в котором предсказывали новорождённому всякие благополучия. Эйлер сохранил, однако ж, первый и показывал его графу Разумовскому, когда судьба несчастного Ивана VI совершилась».
«В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но и во время молебна стулья я столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки. Н. сказал, что мебель придворная и просится в Аничков».
«Вигель рассказал мне любопытный анекдот. Некто Норман или Мерман, сын кормилицы Екатерины II, умершей 96 лет, некогда рассказал Вигелю следующее. Мать его жила в белорусской деревне, пожалованной ей государыней. Однажды сказала она своему сыну: “Запиши сегодняшнее число: я видела странный сон. Мне снилось, будто я держу на коленях маленькую мою Екатерину в белом платьице – как помню её 60 лет тому назад”. Сын исполнил её приказание. Несколько времени спустя дошло до него известие о смерти Екатерины. Он бросился к своей записи – на ней стояло 6 ноября 1796 г. Старая мать его, узнав о кончине государыни, не оказала никакого знака горести, но замолчала – и уже не сказала ни слова до самой смерти, случившейся пять лет после».
Кто-то уже сказал о том мистическом ужасе, которым веет от записи, сделанной Пушкиным в своем дневнике 26 января 1834 года: «Барон д’Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». На другой же день, только через три года, состоится роковая дуэль между Дантесом и Пушкиным. Что заставило его вписать это имя в дневник? Что он чувствовал при этом?
«Потёмкин приехал со мной (Пушкин записывает рассказ Н.К. Загряжской. – Е.Г.) проститься. Я сказала ему: “Ты не поверишь, как я о тебе грущу”.– “А что такое?”– “Не знаю, куда мне будет тебя девать” – “Как так?” – “Ты моложе государыни, ты её переживешь; что тогда из тебя будет? Я знаю тебя, как свои руки: ты никогда не согласишься быть вторым человеком”. Потемкин задумался и сказал: “Не беспокойся, я умру прежде государыни; я умру скоро”. И предчувствие его сбылось. Уж я больше его не видала”».
«Царевича Алексея Петровича положено было отравить ядом. Денщик Петра Великого Ведель заказал оный аптекарю Беру. В назначенный день он прибежал за ним, но аптекарь, узнав, для чего требуется яд, разбил склянку об пол. Денщик взял на себя убиение царевича и вонзил ему тесак в сердце. (Все это мало правдоподобно.) Как бы то ни было, употреблённый в сём деле денщик был отправлен в дальнюю деревню, в Смоленскую губернию. Там женился он на бедной дворянке из роду, кажется, Энгельгардовых. Семейство сие долго томилась в бедности и неизвестности. В последствии времени Ведель умер, оставя вдову и трёх дочерей. Об них напомнили императрице Елизавете. Она не знала, под коим предлогом вытребовать ко двору молодых Ведель. Князь Одоевский выдумал сказку о Богородице, будто бы явившейся к умирающей матери и приказавшей ей надеяться на её милость. Девицы вызваны были ко двору и приняты на ноге фрейлин. Они вышли замуж уже при Екатерине: одна за Панина, другая за Чернышёва (Анна Родионовна, умершая в прошлом 1830 году), третья не помню за кем».
«Не думал встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: “Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей”. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах ещё жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулей».
…Все это Пушкин для чего-то записал. Он ничего не делал напрасно. Это какие-то заготовки, судьбу которых оборвала та же самая пуля. Вспомним, какой незначительный случай дал повод развернуть Пушкину великолепное полотно «Медного всадника». Один человек рассказал другому свой сон… Все эти краткие наброски могли бы раздвинуть наше представление о гении Пушкина, буде дана ему возможность сказать то, что подразумевал он, то, что виделось ему за этими торопливыми строчками. Вот чего жаль. Всякое многоточие в пушкинских дневниках и памятных заметах – больно саднит душу тем, что за каждым многоточием таким – тот Пушкин, которого мы никогда не узнаем…
Книга третья
И жизнь, и слёзы, и любовь…
Жизнеописание Анны Керн, урождённой Полторацкой
Из напутствия Николая Раевского, знаменитого пушкиниста
История взаимоотношений Анны Керн и А С. Пушкина достаточно известна только по стихам, признанным лучшими в мировой лирике, – «Я помню чудное мгновенье…».
Менее известно то, что встретились два этих незаурядных человека в чрезвычайно трудное для обоих время, особенно для поэта. Время, когда талант Пушкина достиг полного совершенства, однако обстоятельства его жизни ощущались им и в самом деле складывались трагически.
Поэтому мимолетная встреча эта имела для поэта выдающееся значение. Она явилась милосердным подарком судьбы, украсившим и облегчившим время изгнания и тягостных раздумий, с ним связанных.
Ещё менее известны обстоятельства жизни Анны Керн до и после встречи с поэтом. Между тем она является таким типом человека, что в значительной степени наполняют свою эпоху особым содержанием, делают для нас более понятным и близким прошлое.
Житейский подвиг её заключается в том, что она сумела возбудить в гении великое чувство, вдохновившее его сказать величайшие слова о любви и о женщине. Разумеется, достигла она этого не просто исключительной внешностью (в которой, как отмечается, были и недостатки), но и вполне определённым совершенством духовного облика.
Мы знаем только об одном мгновении из отношений великого поэта и любимой им женщины. И для нас звучит откровением, что отношения эти, оказывается, продолжались годами. Не о мимолётном влечении это говорит.
Имя Анны Петровны Керн, урожденной Полторацкой, известно всем читающим людям, а их великое множество. Литературных работ, посвящённых, преимущественно, короткому, бурно пламенному роману Пушкина и Анны Петровны, имеется множество, начиная с коротких газетных статей и до солидных, академического характера исследований. Если бы собрать механически воедино все эти работы, получился, вероятно, немалой толщины том. Если же предположить, что нашёлся бы бесконечно трудолюбивый автор, который посвятил бы десяток лет своей жизни комментированию всех этих произведений, то литература пополнилась бы ещё несколькими томами того же содержания.
В связи с вышеизложенным можно было подумать, что личность Анны Керн и её жизненный путь уже известны весьма подробно и точно.
В действительности, однако, до настоящего времени жизнь Анны Петровны не была столь подробно описана во всём богатстве, противоречивости и разнообразии житейских деталей. Можно поэтому приветствовать жизнеописание удивительной женщины в том виде, как сделано оно Евгением Гусляровым.
Автор данной работы идёт своеобразным путём. Он собрал огромное количество фактов, искусно их группирует, но в большинстве случаев не высказывает своих суждений и выводов. Он как бы предлагает читателю самому поразмыслить и напрячь воображение. Идя по намеченному автором пути, этот читатель вряд ли собьётся с дороги, вместе с тем он с удовлетворением почувствует, что и сам будто становится в некотором роде соавтором воссоздаваемого здесь образа Анны Керн.
Другой особенностью повествования Е. Гуслярова (подчеркнем – сугубо документального) является тот факт, что короткий пушкинский период жизни Анны Петровны, несмотря на всю значительность и драматизм, не заслоняет всё же собой этапы её сложной, многотрудной и в общем интересной жизни.
Да, Керн была очень дружна с Пушкиным, в какой-то момент была предельно близка ему, но не эта интимная связь с поэтом определяла их отношения. Анна Петровна глубоко понимала своего гениального друга и умела ценить его духовную сущность. С другой стороны, материалы, заложенные в книгу Е. Гусляровым, показывают, что и Анна Керн сама была незаурядной, многосторонней и содержательной личностью. Анна Керн осталась бы и была заметным человеком и в том случае, если бы пути гениального поэта и её не пересеклись, чего, на мой взгляд, нельзя сказать о Наталье Николаевне Гончаровой.
Автору в высшей степени свойственно чувство меры, а также чувство такта, которое не изменяет ему и в тех случаях, когда ему приходится говорить о весьма нелёгких для изложения предметах, В качестве примера приведу тот факт, что в известном стихотворении Пушкин именует Анну Керн «гением чистой красоты», а в не менее известном письме С.А. Соболевскому отзывается об отношениях с предметом своей любви таким образом, что издателям до сих пор приходится обозначать одно из слов многоточием. Е. Гусляров не пытается подвести эти два факта под некий общий знаменатель. Эти отзывы находятся в разных планах, можно сказать, в разных измерениях. В стихотворении мы видим Пушкина в измерении идеальном, в сфере «чистой красоты», а в письме узнаём просто мужчину, добившегося, удовлетворенного желанной, но нелёгкой победой. В общем, то, что сделано Е. Гусляровым, является важным и весьма ценным приобретением для читателя, любящего русскую литературу. В этом небольшом по объёму труде мы видим целый ряд ярких образов, искусно сплетённых автором из биографических нитей, тянущихся из множества разного рода документов.
Прежде всего – это образ самой Керн, красавицы и умницы, беспощадно относившейся к своей жизни, образ Пушкина, по-новому проступающий из мглы времён, черты других, лиц, окружавших Пушкина и Керн.
Реконструкция души. Здесь сделана попытка такого рода.
Жанр, в котором сделано жизнеописание знаменитой женщины, пожалуй, не ново, но названия у него ещё нет.
Это просто цепь документов и свидетельств современников, выстроенных в определённой последовательности, почти без комментариев. Это позволяет с исключительной точностью восстановить дух эпохи, всесторонне и столь же точно воспроизвести реальные взаимоотношения, облик и подлинную жизнь многих людей, которые оставили яркий след в истории отечественной культуры.
Читатель будет, несомненно, благодарен автору за умелое воссоздание достопамятной эпохи, в которую жили и действовали эти люди, творившие русскую историю.
Н. Раевский, пушкинист
Несколько слов от автора
Тот, кто роется в ворохе старых бумаг с заранее обдуманной целью, сходен в своих желаниях с человеком, пришедшим расспрашивать.
Я и расспрашивал бумагу, узнавая, как много человеческой души сохраняет она.
И ещё я узнавал, что бумага бывает откровеннее души, потому что она выдаёт порой даже то, что относят к сокровенному.
Может быть, со временем мы дойдем до того, что сможем восстанавливать человеческую душу, как умеем уже восстанавливать облик давно ушедших людей.
Реконструкция души. Здесь сделана попытка такого рода.
Мой стол и сейчас еще завален книгами, журналами, оттисками газетных статей с не совсем привычным начертанием шрифта более чем столетней давности.
Когда я сажусь за этот стол, старые строчки будто обретают голос.
Я не могу избавиться от иллюзии, что слышу живых людей, которых давно уже нет.
Я вслушиваюсь в эти голоса с естественной робостью человека, не вполне освоившегося в хорошей компании, собравшейся много раньше моего прихода.
Они говорят о другом человеке, об отсутствующем. Говорят, с нежностью, восхищением, сочувствием, иногда с иронией, грубоватым добродушием.
Многое из того, о чём говорится в этой компании, не укладывается в устоявшееся представление о том человеке, впрочем, как и о тех людях, которые выступают со свидетельствами…
В своем рассказе я сознательно поставил себя в жёсткие рамки, которыми ограничивает автора документ.
Недостаток любого комментария заключается в том, что он поправляет, вольно или невольно, документ, а, значит, мнение человека, который, в данном конкретном случае, уже не может его защитить. Потому в этом повествовании комментариев почти нет. Ни своих, ни тех, которые считаются общепринятыми.
Фантазия и домысел – вещи хорошие, но, когда они касаются реально существовавшей личности, они могут оскорбить её даже в том случае, если лакируют и приукрашивают.
Это соображение продиктовало форму повести-документа, в которую должны быть обязательно включены все свидетельства, которые существуют. Тут возникли сразу две сложности.
Первая – надо было добыть все свидетельства.
Вторая – по мере того, как пухла папка с выписками, уже не от тебя зависело, каким в конце концов станет герой.
Я просто шёл по следам чужой судьбы и, чем больше было в ней неожиданности, тем большее удовольствие она мне доставляла.
Всё это время я сам скорее был читателем. У меня не было возможности что-либо исправить в этой судьбе.
Теперь о самой героине.
Имя, которое жизнь выбирает для бессмертия, чаще всего стоит того. Случайностей в этом не бывает.
Есть имена героические, которые составляют славу эпохи.
Есть имена поэтические, которые составляют цвет эпохи.
Есть имена, по которым мы составляем себе представление об обаянии эпохи и тех людей, которые наполняют ее земным и прекрасным содержанием. Вот именно к этому последнему разряду исторических личностей нужно, пожалуй, и отнести Анну Керн, урожденную Полторацкую, в последнем замужестве Маркову-Виноградскую.
…Я не могу избавиться от иллюзии, что слышал живые голоса людей, которых давно уже нет. В общем-то тут нет ничего удивительного, потому что на старых пожелтевших листах, часто бывало – находил вместо букв и типографской краски драгоценный камешек из многоцветной мозаики жизни.
Когда все камешки были подобраны и в беспорядке сложены в мастерской, встал вопрос – с которого начинать?
Решил начать с этого:
…дедушка получил место губернатора в Орле и поехал туда с новобрачными, с сыновьями и дочерьми: Анною и Натальею. Там-то я и родилась, 11 февраля 1800 года, под зелёным штофным балдахином с белыми и зелёными перьями страуса по углам. Обстановка была так роскошна, что просительницам мудрено было класть на зубок под подушку матери иначе как золото, и его набралось до семидесяти голландских червонцев. Эти червонцы занял Иван Матвеевич Муравьев-Апостол в 1807 году. Он был тогда в нужде. Впоследствии он женился на богатой и, по случаю женитьбы Петра Ивановича Вульфа на Розановой, говорил, что «Вульф женился на розе, а я на целой житнице». Несмотря, однако же, на это, долг остался неуплаченным. Что, если бы наследники его вспомнили о старом долге и помогли мне в нужде.
А.П. Керн. Русский архив. 1884, вып. 6.
Несколько слов от автора
Эти строки написаны Анной Петровной, когда ей было уже за семьдесят. Кроме важного в отношении хронологического порядка сообщения, содержится в них намёк на некое неблагополучие, которое роковым образом сопровождало её в течение всей жизни. Это краткий очерк, молниеносный конспект жизни, который можно ставить эпиграфом к ней…
Я воспитывалась в Тверской губернии, в доме родного деда моего по матери, вместе с двоюродною сестрою моею, известною вам Анною Николаевною Вульф, до 12 лет возраста.
А.П. Керн. Воспоминания. Вступительная статья, ред. и прим. Ю.Н. Верховского. Л., «Academia», 1929, с. 242—279. С уточнением по Библиотеке для чтения, 1859, т. 154, N 3, с. 111—144
Отец её, малороссийский помещик, вообразил себе, что для счастья его дочери необходим муж генерал. За неё сватались достойные женихи, но им всем отказывали в ожидании генерала. Последний, наконец, явился. Ему было за пятьдесят лет.
А.В. Никитенко. Дневник.
Анна Петровна сама рассказывала, что когда в Берново приехала Екатерина Федоровна Муравьёва с сыновьями Никитой (впоследствии сосланным в Сибирь «декабристом») и Александром, и мальчики резвились, дурачились, и обращались с ними бесцеремонно, то обе подруги (А.П. Керн и А.Н. Вульф), которым едва исполнилось по десять лет, на них обижались: «Они смели фамильярничать с особами, которые считали себя достойными только принцев и мечтали выйти замуж за Нуму Помпилия или Телемака, или за подобного им героя. Такой дерзости мы не могли переварить".
Л.Б. Модзалевский, стр. 16
В 1812 г. меня увезли от дедушки в Полтавскую губернию, а в 16 лет выдали замуж за генерала Керна.
А.П. Керн. Воспоминания…
Муж Анны Петровны, Ермолай Фёдорович Керн, был одним из героев двенадцатого года (портрет его находится в Военной галерее Зимнего дворца) – и, вместе с тем, типом генерала своего времени. Иных объяснений не нужно…
Русская старина. 1879 г., стр. 318.
Густые эполеты составляли его единственное право на звание человека. Прекрасная и к тому же чуткая, чувствительная Анета была принесена в жертву этим эполетам.
А.В. Никитенко. Дневник
Его поселили в нашем доме и заставили меня быть почаще с ним. Но я не могла преодолеть отвращения к нему и не умела скрыть этого. Он часто высказывал огорчение по этому поводу и раз написал на лежавшей перед ним бумаге:
Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах…
Я прочла и сказала: старая песня! «Я покажу, что
она будет не старая», – вскричал он и хотел ещё что-то продолжать, но я убежала. Меня за это сильно распекли.
А.П. Маркова-Виноградская. Дневник… 1870 г.
Ермолай Фёдорович Керн не без гордости называл сам себя «солдатом»; и действительно, вся жизнь его прошла в войсках и походах – с молодых лет и почти до могилы. Он родился в 1765 году в г. Петровске, Саратовской губернии, где его отец, Фёдор Андреевич, отставной военный, был в течение долгих лет городничим. Начав службу в 1781 году, Керн в разных войнах 1788 – 1814 гг. получил семь боевых наград, в том числе чин генерала (1812) и Георгиевский крест за взятие Парижа, где он особо отличился. С наступлением мирного времени изувеченный Керн командовал различными бригадами, а с 1816 г.– 15-ю пехотною дивизиею; в это-то время судьба и свела его с А.П. Полторацкою.
Б.Л. Модзалевский. Любовный быт пушкинской эпохи. В 2-х томах Т. 2. М., «Васанта», 1994. (Пушкинская библиотека). С. 123
Подтверждением незаурядности генерала служат по крайней мере два факта. Во-первых, портрет генерала Керна находится в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге среди портретов наиболее известных героев Отечественной войны 1812 г. Во-вторых, на стенах храма Христа Спасителя в Москве, возведённом в честь победы над Наполеоном, располагаются мраморные плиты, на которых высечены названия мест сражений, наименования полков и имена русских офицеров, особо отличившихся в каждом из этих сражений. Е.Ф. Керн упоминается там пять (!) раз. Для сравнения, Д. Давыдов удостоен такой чести всего трижды.
Керн был действительно отличным, храбрым генералом, преданным царю и Отечеству, о чём свидетельствуют многочисленные императорские отличия, и что подтверждают его современники – М.Б. Барклай де Толли, Н.И. Раевский и др. Генерал П.П. Коновницын, в Бородинском сражении сменивший раненого Багратиона, за блестящую штыковую атаку адресует тогда еще подполковнику Е.Ф. Керну слова: «Браво, Керн! Будь в моей воле, я бы снял с шеи мой Георгиевский крест и надел его на тебя!».
Кретинин Г. В. «Судебные дела» генерала Е.Ф. Керна // Война и мир: исследования по российской и всеобщей истории. – Калининград, 2018. С. 146-157.
По описаниям историка А.И. Михайловского-Данилевского, адъютанта Кутузова, «…отличный кавалерист Керн был среднего роста, крепок и ладен, худощав и нрава весёлого. Беззаботный, доверчивый, не бережливый на деньги, никогда не помышлял он о завтрашнем дне. Война составляла его стихию… Действительно, в сражениях надо было любоваться Керном».