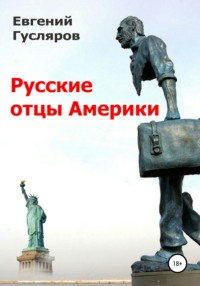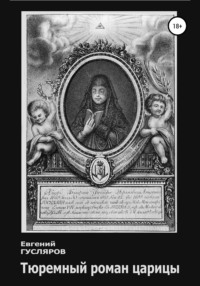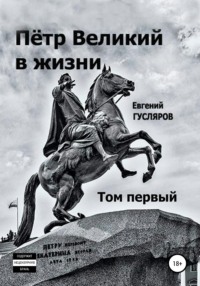Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
А вот что говорил архимандрит Леонид после беседы с Толстым: «Заражён такой гордыней, какую я редко встречал. Боюсь, кончит нехорошо».
И эта одержимость диктовала ему всё новые и новые совершенно для здорового духом человека невероятные слова:
«Я готов скорее отдать трупы моих детей, всех моих близких на растерзание голодным собакам, чем призвать каких-то людей для совершения над их телами религиозного обряда».
Однажды, опять же в ту пору, Толстой кроме духовного недуга вдруг ощутил и тяжкую физическую болезнь. Так что все, было, сильно обеспокоились уже. Один из «толстовцев» некто Абрикосов, дежуривший у его постели, подошёл, чтобы поправить подушку болящему, и услышал: «Не хорошо мне…». Абрикосов спросил: «А духовно хорошо?». Толстой ответил: «Духовно очень хорошо, я пришёл духовно до такого состояния, что дальше некуда идти…».
Об оптинских старцах он выразился тогда так: «Это святые, воспитанные рабством». Обо всех верующих православных людях сказал: «…видел людей, считающих необходимым по нескольку часов каждый день стоять в церкви, причащаться, благословлять и благословляться и потому парализующих в себе деятельную силу любви».
«Вчера был архиерей.... Он, очевидно, желал бы обратить меня – если не обратить, то уничтожить, уменьшить моё, по их мнению, зловредное влияние на веру и Церковь. Особенно неприятно, что он просил дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы не придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я “покаялся” перед смертью. И поэтому заявляю, что возвратиться к Церкви, причаститься перед смертью я так же не могу, как не могу перед смертью говорить пахабные слова или смотреть пахабные картинки, и потому всё, что будут говорить о моём предсмертном покаянии и причащении – ложь! Похоронить меня прошу также без так называемого богослужения, а только зарыть тело в землю, чтобы оно не воняло!».
Но верх его непонимания и брезгливой ненависти к церкви, конечно, выплеснул он на страницы последнего своего романа:
«Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь Бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нём. Самое же главное в действии было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь… Хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей славы, чем какие-то серафимы. После этого считалось, что превращение совершилось, и священник, сняв салфетку с блюдца, разрезал серединный кусочек начетверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела Бога и выпил глоток Его крови…».
И до Толстого было много сомневающихся в вере Христовой и прямых безбожников было немало. Но никто из них не сказал до Толстого о ризе – «парчовый мешок», не назвал иконостас – «перегородкой». Ну и так далее по тексту…
А уж после выхода «Крейцеровой сонаты» окончательно стало ясно, что за века своего существования православная церковь не подвергалась более убийственной и немилосердной хуле. Не было и того, чтобы собственное мнение с такою силой утверждалось в качестве последней и неоспоримой истины. И ясно стало, что ни о каком мире Толстого просить уже невозможно. И склонять его к тому бесполезно.
«Православная церковь! Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженных людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженных людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ».
Тут уж не стало выбора.
Далее предстоит нам уразуметь и постигнуть смутное и грозное слово «анафема». Церковному отлучению Лев Толстой был подвергнут 24 февраля 1901 года. В этот день «Церковные ведомости» при Святейшем Правительствующем Синоде опубликовали «Определение Святейшего Синода от 20-23 февраля 1901 г. № 557 с посланием верным чадам Православной Греко-Российской церкви о графе Льве Толстом».
Вскоре Александр Куприн ужаснул русскую интеллигентную публику чудовищными подробностями текста, который обрушился в церквах всей России на седины упорного отступника. Я цитирую его рассказ «Анафема»:
«…хотя искусити дух господень по Симону волхву и по Ананию и Сапфире, яко пёс возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его мали и зли, и молитва его да будет в грех, и диавол да станет в десных его и да изыдет осужден, в роде едином да погибнет имя его, и да истребится от земли память его… И да приидет проклятство, а анафема не точию сугубо и трегубо, но многогубо… Да будут ему каиново трясение, гиезиево прокажение, иудино удавление, Симона волхва погибель, ариево тресновение, Анании и Сапфири внезапное издохновение… да будет отлучён и анафемствован и по смерти не прощён, и тело его да не рассыплется и земля его да не приимет, и да будет часть его в геене вечной и мучен будет день и нощь».
Мне, конечно, захотелось увидеть оригинал этого беспощадного документа, полного средневекового инквизиторского неумного изуверства. Я пошёл в ближайший от меня христов храм, его совсем недавно построили под моими окнами в составе так называемого «Иерусалима», то есть рядом с другими божьими домами – мечетью и синагогой. Дождался выхода батюшки, который на просьбу мою посодействовать в поисках, глянул на меня безмятежными и даже чуть озорными глазами.
– Такого документа нет, – сказал он. – Это всё, как говорится, художественный вымысел. Да, и очень высоко художественный, этого-то у Куприна уж не отнимешь… Никакой анафеме Лев Толстой никогда церковью не предавался… Всё это пошло от людей, как бы это помягче сказать, мало знающих церковное дело, а то и прямо, опять же, враждебных ей, щеголяющих своей прогрессивностью…
Да, тогдашний Куприн изо всех сил старался быть прогрессивным. Это мы знаем из истории его творчества. Пропуск в большую литературу тогда можно было получить только из рук опять же прогрессивных издателей, владеющих прогрессивными журналами и либеральными газетами. Прогрессивным же и либеральным направлением стали в те годы неприязнь к сложившемуся в России порядку жизни, и открытое противостояние порядку российской государственности. Этим тогда ушиблены были многие русские литераторы, и Куприн тоже. Но главное тут было другое. За это хорошо платили тогда. И теперь за это неплохо платят. Писатели становились воинственно «прогрессивными» часто по той банальной причине, что им хотелось кушать, и кушать шикарно, с рябчиками и шампанским, в ресторане «Яр», или, по крайней мере, в «Вилле Родэ». Я думаю так же, что изощрённый аппетит русской интеллигенции и приводил её чаще всего в революцию. И в толстовство многие уходили тоже по этой банальнейшей из причин. Так что деятелям либеральным и прогрессивным и теперь мало веры. Волчий аппетит мешает им быть искренними. Куприн, разумеется, этим не исчерпывается. Я люблю совсем другого Куприна, но это, как говорится, уже совсем иная история…
Оказалось, что и всех то документов об отношении русской православной церкви к писателю Толстому только и есть один. Именно тот, который мы уже знаем – это то самое Определение и послание Святейшего Правительствующего Синода о графе Льве Толстом от 20-22 февраля 1901 года [по старому стилю].
И вот с некоторым облегчением даже узнаю я, что в документе этом не было не только страшного слова «анафема», но даже и слова «отлучение» там нет. В нём есть только официальное через печать извещение ко всем верующим, что графа Льва Толстого отныне нельзя считать членом Православной Церкви, поскольку его публично высказываемые и активно тиражируемые убеждения несовместимы с принадлежностью к ней. И что прислушиваться к его проповедям надо с черезвычайной осторожностью, поскольку в них опасная кроется отсебятина. Церковь развелась с Толстым, как разводятся остывшие друг к другу супруги. Которым вместо свидетельства о браке, потребовалась теперь бумага о его расторжении. Просто бумага и ничего больше. Этот акт стал нужен церкви ещё для того, чтобы лишить мятежного графа авторитета церковного учителя. Так что, повторю, не только анафемы, не было даже отлучения Толстого от православия. И вот что важно отметить, даже после выхода в свет этого определения Синода сам Толстой не опротестовал его, а подтвердил, что к Церкви не принадлежит.
«…То, что я отрекся от Церкви, называющей себя Православной, это совершенно справедливо.
…И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же – собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл христианского учения.
…Я действительно отрекся от Церкви, перестал исполнять её обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мёртвое моё тело убрали бы поскорее, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым.
…То, что я отвергаю непонятную Троицу и басню о падении первого человека, историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо…
…Ещё сказано: “Не признаёт загробной жизни и мздовоздаяния”. Если разумеют жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями-дьяволами и рая – постоянного блаженства, – совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни…
…Сказано также, что я отвергаю все таинства… Это совершенно справедливо, так как все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия…».
Единственное, что не устраивало графа Толстого во всём этом деле с церковным извещением, это именно то, как это ни покажется странным, что не был он громогласно предан во всех храмах России именно этой анафеме и проклятию. Ему хотелось прослыть мучеником, ему хотелось, чтобы церковь русская пала до уровня инквизиторского средневекового учреждения, дикого и варварского. Жалел он именно о том, что всё пошло не по Куприну.
Его отношение к Определению ясно показывает случай, рассказанный секретарём Толстого, В.Ф. Булгаковым:
«Лев Николаевич, зашедший в “ремингтонную”, стал просматривать лежавшую на столе брошюру, его “Ответ Синоду”. Когда я вернулся, он спросил:
– А что, мне анафему провозглашали?
– Кажется, нет.
– Почему же нет? Надо было провозглашать… Ведь как будто это нужно?
– Возможно, что и провозглашали. Не знаю. А Вы чувствовали это, Лев Николаевич?
– Нет, – ответил он и засмеялся».
«Напишите [царю], ради Бога, чтобы меня сослали. Это моя мечта», – просил в 1890-м году Толстой известного Константина Леонтьева.
Ради справедливости надо тут сказать и то, что первая мысль «приструнить» отлучением Толстого была обсуждаема задолго до выхода церковного Определения. И родилась она в светской интеллигентской среде. В августе 1895 года в журнале «Русский вестник» вышла статья выдающегося философа-публициста Василия Розанова «По поводу одной тревоги гр. Л.Н. Толстого». В статье в достаточно резкой форме был впервые «отчитан» тот за вред, наносимый Православию. В обсуждении этой статьи приняли участие многие известные деятели культуры. Тогда-то и прозвучала мысль об отлучении. Победоносцев был против. По его мнению, это принесло бы Толстому только пользу. Почитатели его немедленно сплели бы ему терновый венец мученика.
В 1899 году появились знаменитые «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» Владимира Соловьёва. Лев Толстой назван был в этом философском эссе, ставшем мгновенно сверхпопулярным, «религиозным самозванцем, фальсификатором христианства и предтечей лжемессии…». Были резко высмеяны и развенчаны последователи Толстого. Всё это посеяло и укрепило мысль о том, что церковный остракизм только помог бы Толстому выздороветь духовно. Так что, пожалуй, и сама церковь почерпнула эту мысль из светского брожения.
Теперь такой вопрос. Много ли нового можно почерпнуть в толстовской ереси? Что он сказал в своём учении помимо Христа, поднялся ли новый пророк Лев выше евангельских сказаний и заповедей?
«Постарайся полюбить того, кого ты не любил, осуждал, кто оскорбил тебя. И если тебе удастся это сделать, ты испытаешь совершенно новое и удивительное чувство радости. Ты сразу увидишь в этом человеке того же Бога, который живёт в тебе. И как свет ярче светит после темноты, так и в тебе, когда ты освободишься от нелюбви…».
Это, как я понимаю, главное в толстовской проповеди добра и непротивления.
Однако насколько немногословнее и доходчивее звучат истины униженного им Галилеянина: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Или: «делай для других то, что ты хотел бы, чтобы другие делали для тебя».
Да, кроме того, ещё вот какие мнения о Толстом в связи с его проповедью всеобщей любви попадаются сплошь и рядом. Известный литератор Н. Тимковский писал, например: «Хотя Лев Николаевич и тогда уже исповедовал страстно принцип непротивления, но никогда не казался мне человеком смирившимся в каком бы то ни было смысле… Все в нём – глаза, манеры, способ выражения – говорило о том, что принцип, заложенный в него глубоко самой природой, – отнюдь не смирение и покорность, а борьба, страстная борьба до конца… если бы он действительно был такой “непротивленный”, то вряд ли нажил бы себе столько яростных врагов… вплоть до знаменитого отлучения…».
И к собратьям по литературному цеху он относился так, что в любви к ним его заподозрить очень трудно:
«Полонский смешон…», «Панаев нехорош…», «Авдотья (Панаева) – стерва…», «Писемский гадок…», «Лажечников жалок…», «Горчаков гадок ужасно…», «Тургенев скучен…», «Тургенев – дурной человек…».
Никакого почтения не испытывал он к именам, составившим уже величие русской литературы: «Читал Пушкина… “Цыганы” прелестны, остальные поэмы – ужасная дрянь…». «Читал полученные письма Гоголя. Он был просто дрянь человек. Ужасная дрянь…».
Особенно не любил Шекспира. Относился, как к наскучившему сопернику, занявшему его место в вечности: «Прочёл “Юлия Цезаря”. Удивительно скверно». «Какое грубое, безнравственное, пошлое и бессмысленное произведение “Гамлет”!».
И по отношению к Родине своей он чувствовал себя первым по времени диссидентом: «Противна Россия. Просто её не люблю… Прелесть Ясная Поляна. Хорошо и грустно, но Россия противна…». После поездки в Париж писал: «В России скверно! Скверно!! Скверно!!! Приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к Родине».
Чехову говорил: «Вы знаете, что я терпеть не могу Шекспира. Но ваши пьесы ещё хуже…».
Не удивительно, что Толстой не нуждался вовсе в таком чувстве, как дружба и бескорыстная привязанность. По отношению к нему всё это было бы неискренним и неуместным. Зато ненавидели его с каким-то даже болезненным наслаждением.
К восьмидесятилетию Толстого святой Иоанн Кронштадтский, например, сочинил молитву: Господи, умиротвори Россию ради Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию, возьми с земли хулителя Твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого и всех его горячих последователей…
Мало кто знает, что последним по времени толстовцем был режиссёр Сергей Бондарчук. О том, как и он отпал от толстовства и насколько пагубным оказалось действие толстовства на его душу рассказывает Диакон Андрей Кураев: Сергей Бондарчук был воспитан на Толстом и буквально влюблён в него. Всю жизнь он прожил со Львом Толстым, то есть – без Церкви. Вся его квартира была увешана портретами Толстого. Но когда его душа начала расставаться с телом и обострились духовные чувства, он начал воочую видеть, что есть нематериальный, духовный мир и что этот мир без Христа – страшен. Попросту говоря – он начал видеть бесов. Он понял, что портреты Толстого его от этого не спасут. И он позвал священника. Исповедовался и причастился (священник, исповедовавший Бондарчука, и рассказал мне об этом случае – не раскрывая, естественно, того, о чём шла речь на самой исповеди)…
Ну, да ладно, хватит, как бы мне тут через край не хватить.
…Я понимаю, что Толстой не нуждается в моём сочувствии. Ни в чьём сочувствии он не нуждается. Он ушёл от нас гордым человеком. Как интересно было бы узнать, что остаётся от живого человека там, куда мы не можем достать даже воображением. Я думаю, что именно это волновало всё же живого Толстого. Особенно в последние дни.
Нет, не перестанут нас, конечно, тревожить эти его грандиозные метания, когда почувствовал он, что встал уже перед той чертой, за которой совсем не важным становится мирской суд. И людское мнение перестаёт волновать. И не надо уже ничем поступаться в угоду земным страстям. И красоваться перед людской, пусть и миллионной массой уже становится бессмысленным и пошлым делом. Между массой и единицей разница становится никакой, как это и есть на самом деле. Наступает последний час священного эгоизма, когда важен только тот отчёт, который ты даёшь самому себе.
Можем ли мы составить себе представление о том, что чувствовал и чего хотел Толстой в те дни и часы, когда ему предстояло решить нечто окончательное?
Это было бы важно для меня.
И вот, оказывается, это было бы важно и для Толстого.
Я представляю себе следующее событие, которое, кажется мне, непременно произойдёт. Найдётся человек, который сумеет доказать, что великий писатель в конце своего пути стал свободен от гнёта общего мнения. Я думаю, что Толстому это оказалось под силу. И обязательно найдётся документ, который подтвердит это. Найдётся та фактическая, окончательная бумага, которая подтвердит, что он освободился от наваждения, преследовавшего его до конца дней. Найдётся то единственное и окончательное свидетельство, которое вернёт нам Толстого, истинного, без двусмысленностей и незавершённости его последнего нам завета. Иначе, зачем ему нужны бы стали все эти метания, эти поездки в Оптину пустынь? Зачем было желание поселиться в монастыре? Зачем были последние телеграммы к старцам?
Почти все исследователи его последних дней приходят к тому, что в эти дни он стал простым несчастным человеком.
Неужели он так и умирал с этим неестественным и скверным в этих обстоятельствах чувством? Как это недостойно гениального человека. И как это отличается, например, от спокойной и возвышенной смерти Достоевского.
Я бы не назвал себя слишком впечатлительным человеком, но мне грустно стало, когда узнал я, что решение церкви о Толстом, оказывается, необратимо. Его нельзя отменить именно потому, что нет о том личной просьбы самого писателя. И теперь уже никогда не будет.
И нет пока документов, основываясь на которых, можно было бы ясно узнать, что он освободился, в конце концов, от душевной смуты, которая отделила его вдруг от народа.
Между тем, желание массы православных верующих помолиться в церкви за русского гения, великого писателя Земли русской становится теперь всё более насущным.
Россия вернулась к тому состоянию, когда просить Бога о милосердии становится духовной нормой. Принадлежность к христианству становится опять показателем принадлежности к нации, к Отечеству, становится непременным условием национального сплочения.
И дело опять же не в том, нужна ли Толстому эта молитва. Она нужна нам. Милосердие истинно верующих взывает к тому. Жаль, что этому и теперь есть препятствия. Молитва за него будет недействительной, даже если молятся родственники. Они обращались к Патриарху с просьбой вернуть Льва Толстого в лоно православия в день столетия со дня публикации печально известного церковного определения. Тогдашний Патриарх Алексий II ответил на эту просьбу так: «Я не думаю, что мы вправе сегодня навязывать человеку, который умер сто лет назад, возвращение в Церковь, от которой он отказался. В отношении графа Толстого Церковь констатировала то, что граф Толстой отказался быть православным христианином… Мы не отрицаем, что это гений литературы, но у него были произведения, которые явно антихристианские, и он сам отказался быть членом Церкви».
Не по силам мне, конечно, показать доподлинную суть тех давних событий, я просто попытаюсь выяснить, есть ли в тех давних поступках и действиях Толстого какие-нибудь неразгаданные намёки. Таят ли эти намёки нужную мне надежду.
Итак, в конце октября 1910 года Лев Толстой неожиданно для всех покинул Ясную Поляну. Книга, которую он читал перед уходом, – «Братья Карамазовы» Достоевского. Считается, что образ старца Зосимы и повлиял на желание писателя уехать в Оптину Пустынь. Свидетельств о том, что Толстой ехал в Оптину с совершенно определённой целью – встретиться с тамошними старцами, существует множество.
Об этом, в частности, пишет личный врач писателя Д.П. Маковицкий и некоторые другие современники. Возникает резонный вопрос, зачем Толстому была нужна эта встреча? Неужели только для того, чтобы снова сказать о своих антиклерикальных убеждениях?
Нет, надо думать, что Толстой сомневался и хотел ещё раз говорить со старцами. И тогда уже или остаться со своим мнением, или согласиться с их доводами и мудростью.
Известный знаток жизни Толстого В. Никитин пишет, что, приехав в обитель, он, Толстой, долго ходил около ограды оптинского скита, но не вошёл в него. Было похоже, что он не нашёл в себе сил переступить порог монастыря и скита…
В книге А.И. Ксюнина «Уход Толстого» (СПб., 1911) содержится важное свидетельство оптинского старца Варсонофия: «Гостиник пришёл ко мне и говорит, что приехал Лев Николаевич Толстой и хочет повидаться со старцами. “Кто тебе сказал?” – спрашиваю. “Сам сказал”. – “Что же, если так, примем его с почтением и радостью”».
Ещё два раза подходил писатель к неодолимому замшелому входу в монастырский скит, но так и не вошёл… Что-то необоримо роковое не позволило ему это сделать…
Далее, уже 29 октября Толстой покинул Оптину старческую обитель и отправился в ближайший Шамординский монастырь. Здесь исполняла послушание его сестра Мария Николаевна.
О подробностях этой встречи можно узнать из записей её подруги, тоже инокини: «Приехав в Шамордино к Марии Николаевне, он радостно сказал ей: “Машенька, я остаюсь здесь!”. Волнение её было слишком сильно, чтобы поверить этому счастью. Она сказала ему: “Подумай, отдохни!”. Он вернулся к ней утром, как было условлено, но уже не один: вошли и те, что за ним приехали. Он был смущён и подавлен и не глядел на сестру. Ей сказали, что едут к духоборам. “Левочка, зачем ты это делаешь?” – воскликнула она. Он посмотрел на неё глазами, полными слёз. Ей сказали: “Тетя Маша, ты всегда всё видишь в мрачном свете и только расстраиваешь папу. Всё будет хорошо, вот увидишь”, – и отправились с ним в его последнюю дорогу».
Опять роковая и совершенно не нужная несообразность, которая лишает последние дни великой жизни необходимой логики. Есть какой-то очень неприличный привкус у этого поворота судьбы и в том, что инициировала этот нескладный зигзаг дочь Александра, тоже в определённой степени одержимая, у которой, к тому же, обнаружились уже нелады с половой ориентацией…
И вот Толстой посажен в поезд. По дороге, однако, он так заскорбел душой и телом, что вынужден был сойти на знаменитой с тех пор станции Астапово. У Толстого развилось опасное воспаление лёгких. В таком возрасте это равносильно смертному приговору. Понятно, если бы Толстой остался в монастыре, он бы жил ещё и думал.
Его помещают в комнатах начальника местного участка дороги И.И. Озолина.
Узнав об этом происшествии, митрополит Санкт-Петербургский Антоний шлёт телеграмму со своими указаниями епископу Вениамину, в епархии которого находилась Оптина пустынь. Решено было направить к Толстому старца Иосифа. Толстой в это время уже в таком состоянии, которое не оставляет шансов…
Недавно стали известны воспоминания игумена Иннокентия (бывшего оптинского послушника), опубликованные в 1956-ом году в Бразилии. В них есть сведения о другой телеграмме, посланной уже самим умирающим Толстым тому же старцу Иосифу в Оптину пустынь. В телеграмме он просил прислать к нему священника. Тут уж особенно ясно становится, зачем Толстому в этот решительный миг стал нужен батюшка. Как я говорил уже, перед смертью за священником посылают не для того, чтобы вести богословский диспут с ним…
После того, как телеграмма была получена, старцы собрались на совет. Вместо вовсе немощного и тоже больного Иосифа к Толстому послали преподобного Варсонофия.