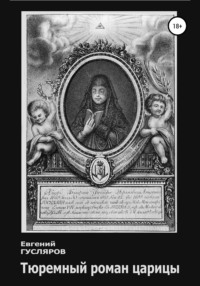Левая сторона души. Из тайной жизни русских гениев
Полное и исключительное воздержание губительным для жизни он не считал.
Между тем, у него было четырнадцать детей, включая сюда, как минимум, одного тайного, побочного, каковых в наших деревнях называют капустничками.
Подобное несоответствие слова и дела вызывало недоумение, кривотолки распространялись. Они приобретали самые резкие формы.
Софья Андреевна выражалась наиболее откровенно, и я не знаю, что ей можно возразить.
«Лёвочку никто не знает, знаю только я – он больной и ненормальный человек».
И далее: «Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Лёвочка, только всё ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья…».
«Тебе полечиться надо», – прямо обращалась она к нему.
И у него однажды прорвалось то же самое. Вот он размышляет о том, что весь мир живёт по своим законам. Весь мир вокруг него не чувствует никаких угрызений морального чувства, рожая и воспитывая детей, люди продолжают любить друг друга, в том числе и плотской любовью, и не испытывают при этом ужаса. И так будет до скончания веков. Но не может же так быть, чтобы весь мир был не прав и только он один прав. Весь мир не может быть сумасшедшим. Значит, сумасшедший – он.
Эта уверенность завела его так далеко, что он даже попробовал освидетельствоваться у специалистов. Или, может быть, Софья Андреевна настояла? Есть о том какие-то глухие упоминания в его дневниках: «Сегодня меня возили свидетельствоваться в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший… Они признали меня подверженным эффектам и ещё что-то такое, но в здоровом уме. Они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший».
О сумасшествии этом надо думать так. Вот есть в глухом лесу жизни натоптанные торные тропы. Здравомыслящие люди, чтобы не сбиться с пути, ходят по ним. Но есть и такие, которым любопытно сойти с проторённого пути, заглянуть в заросли, в неведомую чащу, поглядеть, что за ней. Там, конечно, можно заблудиться. Но бывает и так, что заблудившиеся эти открывают новую дорогу. И масса здравых умом людей идут по ней, совсем уже не думая о том, что путь этот проложен был уклонившимся от того пути, который считался самым верным. Тогда бывший сумасшедший объявляется гением. Бывает такое. Это я так, безотносительно, к слову.
Но вернёмся к начальной истории «Дьявола». Она значительна ещё и тем, что стала как бы прививкой против нравственной порчи, укрепившей мощное духовное усилие настолько, что само это усилие стало болезнью.
В сущности, было нечто ещё до начала этой истории. В его «Исповеди» это изложено так: «Я всею душою желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, я был один, совершенно один, когда искал хорошего… Отдаваясь этим страстям, я становился похож на больного, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тётушка моя – чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужней женщиной…».
Она, эта замужняя женщина, появилась. Это и есть та самая яснополянская Аксинья, жена ушедшего на промысел крестьянина Ермила Базыкина. С нею он и переживёт то чувство, которое будет вспоминать всегда, когда нужно будет описывать и проклинать гибельную власть женского тела.
Аксинья эта крепко зацепила его. В грубейшей, до сей поры неловкой для печатного слова форме, он сказал однажды Горькому афоризм о власти над ним этой женщины.
– Не та баба опасна, которая держит за х.., а которая держит за душу.
Горький даже обиделся тогда на Толстого, ему показалось, что подобный стиль тот выбрал, чтобы снизойти до примитивного уровня, который, возможно, предполагал в своём новом знакомом. Лишь позже он понял, что этого стиля Толстой придерживается как раз с теми, в ком чувствует настоящего мужика и близкого себе человека. И вообще, в соответствующей обстановке он любил выражаться смачно.
Афоризм же этот интересен тем, что, пусть в своеобразной форме, подчёркивает, что в случае с Аксиньей участвовало не только тело.
Через несколько месяцев после свадьбы Софья Андреевна увидит свою бывшую и предполагаемую соперницу. Аксинья, вместе с другой яснополянской крестьянкой, будет прислана мыть полы в барской усадьбе.
Софья Андреевна не делает никаких скидок на неравенство положений, происхождение и прочие условности. Перед лицом любви две эти женщины оказались равны.
То, на что она не могла решиться наяву, снилось ей тогда в кошмарных снах: «Я сегодня видела такой неприятный сон. Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходят откуда-то одна за другой, последняя вышла А. в чёрном шёлковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала её ребёнка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову – всё оторвала, а сама в страшном бешенстве… Я часто мучаюсь, когда думаю о ней, даже здесь, в Москве…».
Имели ли эти мучения какие-то основания в реальной женатой уже жизни Льва Толстого? В дневниках его об этом ничего нет. Но вот в рассказе «Дьявол»: «Он не мог сидеть дома, а был в поле, в лесу, в саду, на гумне, и везде не мысль только, а живой образ Степаниды (читай – Аксиньи. – Е.Г.) преследовал его так, что он редко только позабывал про неё. Но это было бы ничего; он, может быть, сумел бы преодолеть это чувство, но хуже всего было то, что он прежде жил месяцами не видя её, теперь же беспрестанно видел и встречал её. Она, очевидно, поняла, что он хочет возобновить отношения с нею, и старалась попадаться ему. Ни им, ни ею не было сказано ничего, и оттого и он и она не шли прямо на свидание, а старались только сходиться…».
Другой эпизод: «Он надел сапоги, кожан и пошёл к заводу; но не прошёл он 20 шагов, как навстречу ему попалась она в высоко над белыми икрами подоткнутой паневе. Она шла, придерживая руками шаль, которой были закутаны её голова и плечи.
– Что ты? – спросил он, в первую минуту не узнавая её, когда же узнал, было уже поздно. Она остановилась и, улыбаясь, долго смотрела на него.
– Телёнку ищу. Куда же это вы в ненастье-то? – сказала она, точно каждый день видала его.
– Приходи в шалаш, – вдруг, сам не зная как, сказал он. Будто кто-то другой из него сказал эти слова…».
Понятным становится состояние Софьи Андреевны, после того как она прочитала это косвенное указание.
Возможно, тут надо объяснить, откуда в рассказе «Дьявол» вместо Аксиньи взялось имя Степаниды.
Был в Туле знаменитый судебный процесс, на котором разбиралось дело, в какой-то мере повторявшее житейский опыт Льва Толстого. Судебный следователь, некто Н.Н. Фридрихс, так же до женитьбы сошёлся с крестьянкой. Полюбил её. Женился потом на девушке своего круга. Дело этим не поправилось. Старая любовь не прошла, но осложнилась страшной ревностью новобрачной. Дело кончилось трагически. Доведённый до отчаяния, этот Н.Н Фридрихс убил крестьянку Степаниду выстрелом из револьвера. Случай стал известен Толстому, и концовка этой драматической истории, в некоторых деталях поразительно совпадавшей с его собственной, сильно взволновала его.
С тех пор как рукопись «Дьявола» снова явилась на белый свет, Лев Толстой переживал всё это опять и опять. Прежняя забытая история снова вошла в его жизнь в той же болезненной форме. Нетрудно догадаться, что рукопись «Дьявола» он упрятал в надёжное место двадцать лет назад от греха подальше, чтобы не попалась она в руки Софьи Андреевны. Сцену, которая бы последовала за этим, он легко представлял себе.
Но сцены этой он не избежал, он только на двадцать лет её отсрочил.
Рукопись всё-таки попала в руки Софьи Андреевны. После состоявшегося разговора с ней восьмидесятидвухлетний Толстой и записывает в своём интимном дневнике, том самом, который он прячет теперь за голенищем: «Софья Андреевна нашла рукопись “Дьявола” и в ней поднялись старые дрожжи».
Что она ему тогда сказала, Лев Толстой не записал.
Зато сделал он ещё одну, поразительную для столь глубокого старца запись: «Посмотрел на босые ноги, вспомнил Аксинью, то, что она жива, и, говорят, Ермил мой сын, и я не прошу у неё прощенья, не покаялся, не каюсь каждый час и смею осуждать других».
Толстой запамятовал тут, что Ермилом звали не сына, а мужа Аксиньи. Сына его звали Тимофей. Как странно думать теперь, что есть в Ясной Поляне тайное, но прямое потомство Толстого, всегда жившее той простой, народной крестьянской жизнью, о которой печалился он, и к которой так болезненно и истово пытался приблизиться. Не о запретном влечении к прекрасной крестьянке Аксинье я говорю, конечно, а о желании его приблизиться к народу, опроститься, стать частью заветной России.
Интересный был бы поворот у этого сюжета, если бы отыскать следы этого Тимофея Ермиловича Базыкина, отыскать его детей и внуков. Ведь не могут же не знать они, чью кровь унаследовали.
Но вернемся, всё же, к рассказу «Дьявол», который пока остаётся незавершённым. Толстой с необычайным волнением думает, каков же должен быть этот конец.
Двадцать лет назад он остановился на мучительных размышлениях собственного героя о том, как жить ему дальше: «Да, две жизни возможны для меня; одна та, которую я начал с Лизой (женой); служба, хозяйство, ребёнок, уважение людей. Если эта жизнь, то надо чтоб её, Степаниды, не было. Надо услать её, как я говорил, или уничтожить её, чтоб её не было. Отнять её у мужа, дать ему денег, забыть про стыд и позор и жить с ней. Но тогда надо, чтоб Лизы не было и Мими (ребенка)… Только два выхода: жену убить или её…».
Дальнейшее течение рассказа он обдумывал, писал и переписывал в течение последних своих месяцев и дней. И это уже, по всей вероятности, была не простая литература. Это был план дальнейшей собственной жизни, тяжкий поиск верного её продолжения, вплоть до единственно правильного выхода из неё.
И тот пресловутый треугольник, который он наметил в рассказе, тут, конечно, приобретает совершенно иные масштабы. Жена и Степанида-Аксинья это уже не просто женщины, между которыми надо выбирать. Это два мира. К одному он принадлежал и не ушёл от него, к другому стремился и не приблизился к нему. Это мучительное и страшное состояние, подобное тому, которое описано в дантовом аду. Там наиболее жестокие мучения уготованы тем, кто выбрал в жизни ни к чему не обязывающую середину, не умея отважиться на поступок, не умея решительно выбрать ни зла, ни добра.
Теперь, в эти дни, вся его прошлая жизнь и казалась ему долгой роковой нелепостью, не давшей ему ясного выбора, не позволившей ему хотя бы жеста, но именно такого, в котором угадывается подлинное величие.
Все эти мои размышления, конечно, могут показаться надуманными, поскольку имеют весьма зыбкую почву. Можно ли основывать такие далеко идущие выводы на единственном эпизоде, конечно, двусмысленном и нечистом, но вполне согласующимся с общей историей нравов.
Всё это было бы верным по отношению к кому угодно, но только не к Толстому. Вспомним это его: «…не покаялся, не каюсь каждый час и смею осуждать других». Толстой в высшей степени, в болезненной форме страдал тем великосветским комплексом, который не мог не чувствовать всякий мыслящий русский аристократ. Комплексом вины перед народом. Что такое, например, «Война и мир», как не гигантская попытка внушить, наконец, русскому сознанию мысль о русском народе, как главном действующем лице русской истории, не только кормильце, но и спасителе, в том числе и царства, и самой аристократии. Никто этого великого покаянного жеста не понял. Это заставило Толстого разувериться в возможностях художественного образа и слова. Началась простая агитка, листовка и проповедь. Но проповедь всегда предполагает личный пример. Только тогда она становится действенной. Попытки действовать примером упёрлись в каменную стену сложившихся предрассудков, непонимания близких, собственной нерешительности. Круг замкнулся. Он остался один – старый, непонятый, без покаяния.
Именно в этом состоянии он придумывает последнюю концовку рассказа «Дьявол».
«Ах, да, есть третий выход: себя, – сказал он тихо вслух, и вдруг мороз пробежал у него по коже. – Да, себя, тогда не нужно их убивать». Ему стало страшно, именно потому, что он чувствовал, что только этот выход возможен. – Револьвер есть. Неужели я убью себя? Вот что не думал никогда. Как это странно будет…».
Никто не знает, в какой именно день и час Лев Толстой написал сцену самоубийства Евгения Иртенева, но мне представляется, что именно в ту ночь, когда окончательно созрела мысль об уходе. Разве вся обстановка этого ухода не похожа на самоубийство? Он ведь даже точно не обдумал, куда уходит. Нечто от благородного звериного инстинкта чувствуешь уже в одном этом желании не предаваться на виду смерти, которую угадал он, выбрал и так смело изобразил последним усилием воображения.
Толстой поставил точку в рассказе. Посидел, наверное, немного, глядя в жуткую и холодную темень за окном. Достал дневник и стал писать в нём: «…Я не могу долее переносить этого мучительного положения. Нельзя так жить. Я, по крайней мере, так жить не могу и не буду».
Через полчаса пролётка, по грязной дороге, в непроглядной тьме, обдуваемая грохочущим в ушах октябрьским ветром, повезёт его в Тулу, на вокзал. Дальнейшее известно…
Есть в этом последнем акте трагедии один необыкновенно трогательный момент, делающий живую драму Толстого особенно близкой и человечной. Видно, что он досадует на общее мнение, и боится, что оно не поймёт и исказит даже этот его окончательный отчаянный шаг. Самые последние слова его в «Дьяволе» звучат опять от имени того, кто один шагает не в ногу со всем здравомыслящим миром и потому обречён считаться безумным:
«И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные – это, несомненно, те, которые в других видят признаки сумасшествия, которые в себе не видят».
Как изящно тут выражена его последняя боль и последний ответ насмешливому цинизму здравомыслия, в котором и заключается опаснейшая болезнь духа, иначе называемая очерствением души. Болезнь, конечно, с точки зрения гения…
***
Разумеется, это не исчерпывало всей житейской драмы Толстого. Гораздо более жестокая её часть заключалась в другом. Я не стал об этом говорить в первую очередь лишь потому, что сам Толстой в этой тёмной и разрушительной части своей натуры никакой беды не чуял. Она, между тем бросалась в глаза. Тётка Льва Толстого Александра Андреевна свидетельствовала о том, что граф часто становился буквально бесноватым. Один случай такой одержимости она описала: «Он издевался над всем, что нам дорого и свято… Мне казалось, что я слышу бред сумасшедшего… Наконец, когда он взглянул на меня вопросительно, я сказала ему: “Мне нечего Вам ответить; скажу только одно, что, пока Вы говорили, я видела Вас во власти кого-то, кто и теперь ещё стоит за вашим столом”. Он живо обернулся.
– Кто это? – почти вскрикнул он.
– Сам Люцифер, воплощение гордости…
”Конечно, – сказал потом Толстой, – я горжусь тем, что только я один приблизился к правде!”.
Поэтому, полагаю, что этот случай был безнадёжен, хотя, и жаль его, ибо, как сказал Спаситель, “…кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему мельничный жернов на шею одеть и в море броситься”».
Последние слова были сказаны о «толстовстве», соблазнительном учении, которое цвело когда-то на Руси с пышным погибельным буйством.
Не именно ли после подобных сцен задумала Софья Андреевна освидетельствовать своего знаменитого мужа у местных тульских знатоков отклонений в психике и ущербных состояний умственного здоровья?
Таких эпизодов, когда беснование и одержимость Толстого являлись в самой откровенной и ясной форме, было немало. Епископ Тульский и Белевский Питирим вынужден был сообщать своему московскому духовному начальству: «Граф Лев Толстой позволяет себе открыто обнаружить своё полное неуважение к обрядам Православной Церкви. Так, в отчётном году был следующий факт. 31 августа священник села Трасны прибыл с крестным ходом к станции Ясенки и здесь на Крапивенском шоссе при большом стечении народа ожидал святую Владимирскую икону Божией Матери из села Грецова Богородицкого уезда. Когда на шоссе показалась означенная икона, священник и окружающий его народ увидели, что справа по отношению иконы, прорываясь через народ, ехал кто-то на сером коне с надетой на голову шляпой. Минуту спустя всем стало очевидно, что это был граф Лев Толстой. Как оказалось, Лев Толстой ехал близ иконы, в шляпе, от села Кочаков 4-5 вёрст и время от времени делал народу внушение, что собираться и делать иконе честь совсем не следует, потому что это очень глупо, и вообще оскорбительно говорил по поводу святой иконы… Он, очевидно, хотел показать в глазах других своё прямое злонамеренное действие против веры и Церкви Православной. Разъезжая на коне и в шляпе близ иконы Богоматери, он позволил себе в то же время язвительно кощунствовать над нею».
И проходя в Москве мимо Иверской иконы Божьей Матери, которая, как известно, установлена над вратами храма, посвящённого ей, всегда останавливался, глаза его наполнялись недобрым огнём, и он говорил, указывая на икону: «Она – презлая».
Его знаменитые выходы с сохой в поле приходились именно на то время, когда по православным установлениям работать было никак нельзя. Труд, хотя бы и на пашне, и во имя хлеба насущного вместо молитвы в святые дни считался большим грехом. Людишки с неокрепшим духовным сознанием впадали в соблазн. Начинали думать, уж коли граф работает в заповеданное время, то, может, зря установлены эти Божьи дни. Только напрасно расходуется драгоценная пора. А дней таких у православного человека было немало в году. Целых девяносто три.
Вот тут в первый раз и мелькнула мысль в высоких церковных инстанциях, уж ни дать ли графу полную волю, освободив его от церковных установлений, так ненавистных ему. Главное, что тогда бы и другим душевного урона не было. Одно дело, когда опасно куролесит человек, принадлежащий к церкви, другое, когда это делает посторонний. С него и спросу нет.
Так что в апреле 1894 года обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев в письме к профессору С.А. Рачинскому напишет: «Ужасно подумать о Льве Толстом. Он разносит по всей России страшную заразу анархии и безверия!.. Точно бес овладел им – а что с ним делать? Очевидно, он враг Церкви, враг всякого правительства и всякого гражданского порядка. Есть предположение в Синоде объявить его отлучённым от Церкви во избежание всяких сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция поклоняется Толстому».
Случаи отлучения от Церкви на Руси до того уже, конечно, встречались. Интересно посмотреть, кем были те, кто подвергся анафеме за всю историю православия. При отлучении от Церкви имя, данное при Крещении менялось до уничижительного, потому в России пели анафему Гришке (а не Григорию) Отрепьеву, Тимошке (а не Тимофею) Акундинову, Стеньке (а не Стефану) Разину, Ивашке (а не Иоанну) Мазепе, Емельке (а не Емелиану) Пугачеву. Отринут от православия был и мятежный протопоп Аввакум. Были преданы анафеме декабристы… И очень уж немногие знают, что последнее отлучение от Церкви случилось совсем недавно – 2 декабря 1994 года. Тут особому определению архиерейского собора Русской Православной Церкви об отлучении подверглись так называемые «рериховцы».
Кстати сказать, святотатственное нерасположение Толстого к православию и церкви распространялась и на верховных её представителей. Окарикатуренный образ обер-прокурора Синода Константина Победоносцева выведен, например, в лице Каренина в известном романе.
Заметим ещё, что подобный вопрос в отношении писателя в России ставился впервые. Хотя богохульники и до того среди них бывали, в том числе, надо думать по юношескому неразумию, и сам Пушкин.
Итак, церковь задумалась о том, что же делать с Толстым? А его нравственная болезнь между тем только обострялась.
Выдающийся богослов С.Н. Булгаков вспоминал о своей беседе с Л. Толстым в Гаспре, в Крыму, в 1902 году: «Я имел неосторожность в разговоре выразить свои чувства к Сикстине (имеется в виду «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. – Е.Г.), и одного этого упоминания было достаточно, чтобы вызвать приступ задыхающейся, богохульной злобы, граничащей с одержанием. Глаза его загорелись недобрым огнём, и он начал, задыхаясь, богохульствовать».
Откуда это пошло? Ещё в 1855 году, когда ему только исполнилось двадцать семь лет, он записал в своём дневнике фразу, которой начинается отсчёт его провокаций против православия, как духовной основы русского государства: «Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».
Ни много, ни мало, он уже тогда вообразил себя новым Буддой или Магометом.
Впрочем, раньше ещё, в пятнадцатилетнем возрасте Толстой заменил нательный крестик медальоном с портретом французского вольнодумца Жан-Жака Руссо.
В этом же возрасте Владимир Ульянов, будущий Ленин, и вовсе выбросил крестик с изображением Христа в помойное ведро.
Этот Ульянов-Ленин тоже сделал основой своего вселенского подстрекательства борьбу за земное блаженство, назвав его социализмом, а христову веру заменив верой в светлое коммунистическое будущее.
Толстого без особой натяжки можно считать духовником Ленина. Во всяком случае, вождь мирового пролетариата считает, что, «в гроб сходя», Толстой благословил именно их, ленинцев. Этим проникнута вся его юбилейная (к восьмидесятилетию) работа «Лев Толстой, как зеркало русской революции». И в самом деле, новая религия графа Толстого во многих деталях предвосхищает «Моральный кодекс строителя коммунизма». Так что Льва Толстого с полным основанием можно назвать ещё и предтечей самого мирового пролетарского вождя.
Как странно мне было, например, открывать в учении Толстого строки, прямо написанные в духе ленинской публицистики. В статье «О существующем строе» (1896) Толстой заявлял, что «уничтожиться должен строй соревновательный и замениться коммунистическим; уничтожиться должен строй капиталистический и замениться социалистическим; уничтожиться должен строй милитаризма и замениться разоружением и арбитрацией… одним словом уничтожиться должно насилие и замениться свободным и любовным единением людей». Это же подлинный коммунизм, каковым, в теории, во всяком случае, представлялся он поколениям большевиков-ленинцев.
«Толстой, – сказал Ленин, – отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, – и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости».
В учении Толстого Ленин увидел главное. Его вполне можно приспособить к убийственным целям революции, надо только убрать из него некоторые черты барской мягкотелости и оставить только твердокаменную плебейскую ненависть и решительность. Вероятно, толстовство в таком именно обновлённом виде и участвовало в ленинском преобразовании России, стоившем столько крови и смертей.
И крушение русской веры, и взорванные церкви, и распинаемые на воротах храмов священники, всё это выросло из толстовства в том числе. Семена ненависти и бешеного неистовства были брошены в почву, богато унавоженную этим боевым и беспощадным сектантством. Вот что отражается теперь в том зеркале революции, каковым был и остался в нашей печальной истории Лев Толстой. Так что нет никакого преувеличения и напрасной хулы нет в словах о том, что великая русская литература погубила Россию. И этот великий грех литературы остаётся неискупленным.
Как жаль, что он, Толстой, умер на самом интересном месте. Проживи он ещё только семь лет, и в полной мере мог бы испытать на собственной шкуре плоды своих же нечистых мечтаний. Интересно, убежал ли бы он в Стамбул от той ярости, которую так неосмотрительно будил в народе, или возглавил бы, вместе с Горьким, движение и союз пролетарских писателей? Продолжил ли бы он чистить религию Христа «от веры и таинственности», если бы осознал, что именно его науськивание на православную церковь и духовенство помогло одолевшему святую Русь бесовству вновь распять и веру, и самого Назаретского Плотника? И принял ли бы он в качестве новых хозяев своей Ясной Поляны тех комиссаров из идейных каторжников, которых так искренне оплакивал по дороге в Сибирь князь Нехлюдов в его «Воскресеньи»?
Толстой оставался одержимым до конца своих дней. И ведь сам это чувствовал. За три года перед смертью, 22 апреля 1907 года он записал в дневнике: «Вчера странное состояние ночью… Точно кто-то на меня дунул. Почувствовал свежее дыхание, и поднялось бодрое настроение вместе с сознанием близкой смерти».