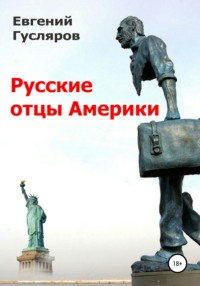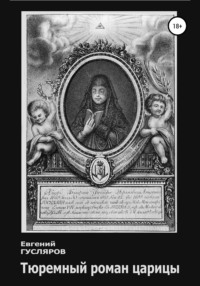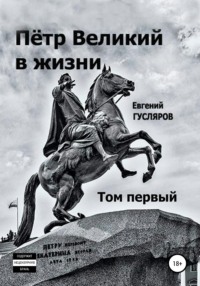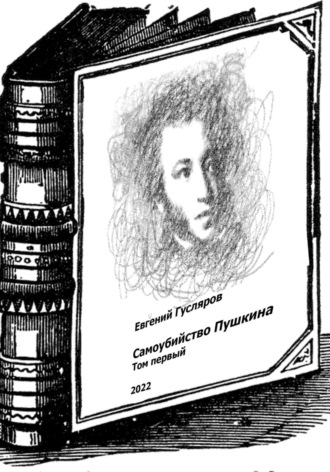
Самоубийство Пушкина. Том первый
Хотя в ведьм кое-где верят по-прежнему.
В конвертике, куда я когда-то начал складывать сведения об интересных мне, «колдовских травах», отыскалась вот такая газетная заметка.
Сотрудница какого-то западногерманского университета провела среди жителей республики любопытный опрос. Тринадцать процентов из тех, кого она спрашивала, уверены в том, что ведьмы в их стране есть. И самое главное, что здешние фармацевты пользуются этим. В аптеках там можно купить «ведьмину траву», которая, по словам рецептов, способна вывести ведьм во всей округе начисто.
А какую же это траву продают западногерманские знахари на вес золота? Скорее всего, это неприметное растение, которое зовут будрой. В конверте, который сейчас передо мной, сведения о нём такие. Выписал я их из старой книги о травах, которая называется «Зельник».
Если травы этой нарвать в ночь под первое мая, а затем сплести венок и надеть его на голову, то в деревне – а они почему-то не любят городов – можно будет всех ведьм угадать.
Какие еще бывают заветные травы?
Колдун в «Князе Серебряном» перечисляет их так:
– Всякие есть травы. Есть колюка-трава, собирается в Петров день. Обкуришь ею стрелу, промаху не дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе растет под Киевом. Кто её носит на себе, на того ввек царского гнева не будет. Есть ещё плакун-трава, вырежешь из корня крест, да повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться… Есть ревенка-трава, когда станешь из земли выдёргивать, она стонет и ревёт, словно человек, а наденешь на себя, никогда в воде не утонешь… А вот есть разрыв-трава, когда дотронешься ею до замка, али до двери железной, то и разорвёт их на куски…
В большом ходу были когда-то амулеты из трав и прочих растений, корней. Они могли наделить человека ясновидением, счастьем в любви, неуязвимостью в битве, защищали от непогоды и дурного глаза, сохраняли вечную молодость – все то, о чём не мог и мечтать человек в обыденности своей.
Ничем не подтверждённая вера в силу трав имеет столь мощные корни, что создавались государственные вердикты, которые звучат теперь весьма своеобразно.
В одном из указов Карла Великого есть пункт, например, где настоятельно рекомендуется разводить на крышах домов траву-молодил. Считалось, что она может спасти жилище от удара молнии.
Выдающийся популяризатор и знаток трав древнего мира Теофраст поместил на одной из самых известных своих книг, на её обложке, рисунок, бывший, вероятно, символом медицины своего времени, изображающий, как при помощи чёрной собаки добывается чудодейственный корень мандрагоры (один из родственников обычного огородного паслена), наделённый силой возвращать молодость.
Наш ботаник Стрижёв проделал недавно весьма любопытную работу. По описаниям таинственных трав в различных старинных «Травоврачах», «Жизненниках», «Прохладных Вертоградах» попытался установить, что же это были за растения. Они оказались совсем обычными, известными каждому, зачастую и близко не похожими видом своим на тот образ, который создан народной фантазией.
При чтении этой работы ловил себя на том, что как-то даже жаль, что легендарные нагромождения о травах так мало имеют под собой почвы, что таинственные покровы с чудесных трав так легко снимаются. И ничего не остаётся нам, кроме известного и обыденного.
Вот что говорит легенда о матери всех трав, уже упоминавшейся плакун-траве… Знахари приготовляли из неё порошки и настойки, способные отводить многие тяжкие недуги, а особо употреблялись для устрашения нечистой силы, заставляя плакать и ведьм, и бесов.
На поверку это просто дикий василёк, по-научному именуемый дербенником иволистым.
Человек, отправлявшийся в нелёгкий и неблизкий путь, обязательно брал с собой ладанку, в которой хранилась головка одолень-травы. Так обращался он к ней на пороге дома:
«Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озёра синие, берега крутые, леса тёмные, пеньки и колоды… Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всём пути, во всей дороженьке».
Надо думать, что одолень-трава и в самом деле помогала осилить дорогу. Ведь мы сами по себе знаем, что значит получить заранее уверенность в том, что дело будет сделано и преграда одолена. Может быть, в этом и была главная сила и одолень-травы, и прочих трав.
Одолень-трава – это просто кувшинка, непременная жительница тихих речных вод, прудов.
«А кто хощет диавола видеть или еретика, и тот корень возьми водой освяти, и положи на престол и не замай сорок дней, и те дни пройдут – носи при себе – узришь водяных и воздушных демонов… А когда кто ранен или сечен – приложи к ране, в три дни заживёт…».
Сказано это о той же мандрагоре, которая носила звание «царя во всех травах».
Много раз пытались добраться до истоков и мрачной, и весёлой славы обычных трав. Отчего же, действительно, у не слишком коварного вредителя сельских огородов – паслёна, один из видов которого назван мандрагорой, столь весомая в прошлом слава?
Чаще всего это объясняется как приём стародавней рекламы, довольно тонко и поэтически исполненной, судя по словесному её оформлению.
Конечно же, на самый обыкновенный папоротник вы станете смотреть совсем иначе, если узнаете, что, прежде чем его сорвать, добыть, хозяину лекарственного прилавка приходилось встречать на перепутье собак с горящими глазами, привидения с мечами. Кроме того, вы узнавали, что собиратель трав вынужден был пользоваться такими приспособлениями, которые заведомо не бывают под рукой. Например, скамейкой из девяти пород хвойного дерева – сосны, ели, пихты, горной сосны, тисса, лиственницы, кипариса, кедра, можжевельника.
Естественно, после этого продавец мог рассчитывать на то, что кошелёк покупателя будет открыт с большей легкостью и широтой. Но торговец, видимо, понимал и то, что отдавать деньги только за страх покупатель не станет, потому и добавлялись чудодейственные качества этим травам, которые могли встать на один уровень с размерами страстей-мордастей, порождённых воображением собирателя, подстёгнутым соображениями корысти.
Но как бы там ни было, мы должны быть благодарны и этим травам, и воображению тех, кто пусть и из соображений личной выгоды, наделил их неверной, но поэтической, тревожащей душу силой. Не этим ли плакун-, тирлич-, разрыв-травам обязаны мы тем, что имеем многие прекрасные страницы Блока, Лажечникова, Гоголя, Сомова, Загоскина, Погорельского, Гофмана, капитана Мариета, Есенина, Максимова, Булгакова, Хлебникова, не говоря уже о Пушкине.
Потом, почтительное отношение к траве, к былинке, рождённое пусть и страшноватой легендой, не перешло ли в душе прежнего человека в уважение и обожание всего мира природы, не стало ли отправной точкой и нашего поэтического воззрения на этот мир…
Недаром тот же Александр Блок отмечал, как часто с необычайной нежностью в Травниках и Лечебниках описываются травы. Описываются так, что представляются они хрупкими живыми существами.
«Растет трава тихоня… растет около зелени, листички рядышком-рядышком, цветочек синенький…».
Что это? Незабудка? Фиалка?
«Кругом листиков рубежки, а из нея на середине стволик, тощий, прекрасен, а цвет у него жёлт: и как отцветёт, то пух станет шапочкою, а как пух сойдёт со стволиков, то станут плешки: а в корне, и в листу, и в стволике, как сорвёшь, в них беленько».
Тут уж точно узнаешь одуванчик.
Теперь можно вернуться к самому началу нашего рассказа о травах из народных легенд и суеверий.
Прототипы многих из них найдены, и тайны больше нет.
Можно сказать и о том, что есть самого любопытного в моём конверте о травах. Наткнулся в одной старой книжке на рецепт того самого желтоватого крема, пахнущего болотными травами и лесом, намазавшись которым Маргарита стала ведьмой. Ведьмина мазь. Конечно, выписал его. И любопытствующим могу теперь сообщить, что состоял он из знакомого нам огородного паслена, ближайшего родственника его, который не раз упоминался тут – мандрагоры, белладонны (белены), мака, болиголова. Можно этот рецепт попробовать.
И говорят, что полёт на Лысую гору вполне мог состояться, но, опять же, объяснять это надо в полном соответствии с реальностью. Все перечисленные травы обладают некоторой долей наркотического действия, могут усыпить, а сонное воображение дорисует детали.
«1. Есть трава по названью парамон, собой волосиста как чёрный волос, растёт у болота кустиками, а наверху будто шапочки жёлтые; давать пить отвар в новолуние и на ущербе месяца от чистого духа, от чёрной болезни. А кто к хмельному тянется, тот пить никогда не станет.
2. Есть трава зодик, растет по старым росчистям, собою мохната, листочки тоже мохнаты с одной стороны, ростом с пядь. Кто ту траву ест поутру, тот человек, пока жив, скорбей не узнает.
3. Есть трава одолень, растет в реке на камне корнем, собой голубая, высотой в локоть и более, цветок оранжевый, листочки беленькие; когда человека отравят до смерти – пусть ест, та трава хороша, всю отраву вынесет… Корень же хорош от зубной боли или для тех, кому скот пасти, чтобы скотина не разбредалась. Держи при себе – и если кто тебя не любит, дай испить – и полюбит, да так, что тот человек не сможет отстать от тебя и до смерти; если же захочешь зверя прилучить – дай ему съесть. Или который хочет зверей промышлять, лисиц и зайцев, петли ставить, той травой окурить силки и обтереть дочиста, тогда зверь очень бежит в ловушки.
4. Есть трава Адамова голова, растёт возле каменных бугров, ростом в локоть, кустиками по пять или шесть и по десять листов вместе, цвет багров, кругленький, а расцветает кукшинами всяких видов, и ту траву рвать перекрестясь, говоря: «Боже, помилуй меня, Боже», а кто грамоте не умеет, сотворить триста молитв Иисусовых. Принеси эту траву в дом, если какой человек порчен кем – дай пить, тотчас угадает виновного. Или которая жена не родит – дай пить, родит. А кто хочет дьявола увидеть или еретика, тот корень освяти святою водой и положи на алтарь и не трогай четырнадцать дней, и как пройдут те дни, носи у сердца, воздушных и водяных увидишь демонов. Или кто хочет ставить мельницу или церковь, или полату – держи при себе, выберешь место точное. Или кто сечен и ранен, приложи к ране – заживёт в три дни. Та трава именуется святой – всем травам царь.
6. Есть трава именем бель, растет в воде, верхним концом против течения. Та трава очень хороша, носи при себе от всякого еретика и противника или супостата или от того, кто на тебя зло замышляет и завидует. А корень этой травы хорош: возьми в рот или в руку, то всякое железо спадёт и замок соскочит.
7. Есть трава кудреватая дягиль, без середки, та трава хороша от еретиков. Кто её поутру рано съест, такой человек пусть никакой, порчи не боится… Если на люди выйдешь, грызи корень хоть раз в день или в неделю раз – от всякой болезни и скорби избавишься. Носи у себя на голове – такого человека люди станут любить.
8. Есть трава именем кокуй, растёт по березнякам, синя аки и пестра, листочки долгонькие, словно язычки, а корень надвое поделен: один мужской, а другой женский – а женский смугл, а мужской бел. А коли муж жену разлюбит – дай ему ночью женский корень, станет любить.
11. Есть трава именем прострел, растет по борам в марте месяце и в апреле, сквозь снег прорастает кустиками, цветок у неё синий, очень хорош. Ту траву в апреле месяце в двадцать пятый день рвать, а на место её положить пасхальное яйцо; ту траву носи при себе – дьявол прочь убежит от такого человека. Если кто избу ставит – класть под углы, если кто порежется – класть на раны или больной скотине, так быстро бог даст здоровья.
17. Есть трава сова, такова страшна: как человек на неё найдет в поле или в лесе, у того человека будет смятение ума, и он заблудится. Растёт у самой земли почти незаметно, а по ней – словно пестрянки, а на пестрянках и в корне черви. Хороша при ловле зверей. А если кто украдёт чего – поворотится от того, только на след положи; если же кто ставит ловушки, положи у того на дороге – и не будет ему пути. Эту траву рвать ввечеру.
24. Есть трава царевы очи, высотой в иглу, собою красива, и листочки и цветок красивы, а сверху как спица; ту траву в доме держать ради скота, и как на суд идти – не будешь осуждён, только держи при себе – и победишь противника своего; она хороша и ловушки обкуривать от сглаза; держи в чистоте при себе, и жена будет ласкова, а захочешь – скоро всему научишься. Растёт же она у болота, там, где родники бьют и клюква растёт.
30. Семитар растёт по лугам и по ровным дубровным местам, и там, случается, по хорошим местам, высотой вырастает в шесть узлов и в шесть листов. Листом редка, четырёх цветов: синий, красный, зелёный, багровый: трубка о трёх коленцах, больше полу аршина, листья велики и широки, видом похожи на листья хрена, хотя настоящий его корень глубоко в земле, похож на человека, а из рёбер того человека будто трава проросла. Знай об этой траве: какая бы буря ни была – не может повалить ту траву никуда, кроме как на восток. Корень этой травы полезно носить при себе, бог сохранит от смертного труда, а кто ест натощак её, тех Бог одарит всякими благами; если же нечисть какая в ухо влезет – тогда истолки той травы мелко и смешай с уксусом, да запусти в ухо, и гад помрет. А если у этого корня вырежешь грудь я вынешь сердце, то, только дашь кому, станет по тебе тосковать; если муж не любит жену, голову этого корня держать при себе, станет любить. А если жена не любит мужа, делай то же. Если же жена или муж будут блядовать, то отрезать от корня правую руку и стереть с водою и дать окатиться; или которая не родит – варить в печень в молоку, давать пять по три утра – родить будет. А брать её сквозь золото».
* * *
…Продолжим о приметах недобрых. Доподлинно узнать, скольким из них верил Пушкин, конечно, невозможно. Однако кое-какие свидетельства остались. Некоторые уже упоминались в этом повествовании. Вспомним фамильное предание Пушкиных, по которому в дни восстания на Сенатской площади поэт не попал в Петербург только потому, что дорогу перебежал ему заяц да поп попался у самого выезда из Михайловского. Есть и лично пушкинское толкование этих примет. В «Дубровском», например.
«Навстречу Дубровскому попался поп со всем причтом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошёл стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо него».
Или вот в «Онегине»:
Когда случалось где-нибудь
Ей (Татьяне) встретить чёрного монаха
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная, что начать от страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.
Откуда к божьим пастырям людского стада такое отношение, мне толком выяснить не удалось. Может быть, потому что племя это, не всегда верное небесному помыслу, расплодилось на Руси подобно саранче и крепко ущемляло христианина разнообразными корыстными обложениями. Каждая третья русская сказка была щелчком по толоконному поповскому лбу.
А заяц обижен народным воображением вот по какой причине. Чертей, которых после того, как Господь низринул их всех с небес на землю, обретается рядом с нами неисчислимое множество. Однако им неловко появляться перед людьми в настоящем своем пакостном виде. Вот они и наловчились принимать безобидные обличья. Прежний русский суеверный человек привык распознавать их чаще всего в черной кошке. Потом – в собаке, в свинье, лошади, змее, волке, зайце, белке, серой мышке, лягушке, щуке, сороке.
Кроме того, заяц – любимая животина лешего. Крестьянские легенды, которые были записаны С. Максимовым, рисуют его прямо каким-то крепостным у лешего. Он, как помещик-самодур, даже в карты их способен проиграть другому лешему, соседу своему дюжинами.
Трогательной тут может показаться вот такая деталь. Крестьянин может вообразить чёрта в облике любого животного, кроме коровы. И самому себе не давал русский человек обидеть смиренную кормилицу свою.
Из выписок
Владимир Даль. Пословицы русского народа
«Заяц дорогу перебежит – неудача стрелку.
Поп, да девка, да порожние вёдра – дурная встреча.
Когда собака перебежит дорогу, то беды нет, но и большого успеха в лесу не будет.
Когда проездом увидишь в окно, что бабы прядут, – воротись.
Девка с полными вёдрами, жид, волк, медведь – добрая встреча; пустые вёдра, поп, монах, лиса, заяц, белка – к худу».
* * *
…Еще одна примета не к добру описана в уже цитировавшихся стихах, посвященных Анне Керн. Вновь повторена в том же «Евгении Онегине».
…Вдруг увидя
Младой двурогий серп луны
На небе с левой стороны,
Она дрожала и бледнела.
Левая сторона в понимании русского человека всегда была стороной проклятой. Сплюнуть три раза от сглазу, да и просто плюнуть в правую сторону было для него таким же кощунственным делом, как и богохульство. Споткнуться на пороге на левую ногу, встать утром с левой ноги предвещало крупные неприятности на день… А дело все было в том, что, по древнему поверью нашему, рядом с каждым человеком, сразу после его рождения, вставал чёртов посланник с левой стороны и ангел божий – с правой. Дьявольский счетовод немедля принимался записывать грехи и дрянные поступки. При этом он сам же и внушал их. Плюнув в левую сторону, можно было попасть нечистому в глаза, и тогда он мог проморгать кое-какие наши делишки нехорошие, шалости.
Зазвенело в левом ухе, значит, дьявольский страж уже успел слетать доложиться к своему нечистому начальству о наших делах и теперь вернулся, чтобы снова заниматься твоей недоброй бухгалтерией.
Корни людского родства разнообразны, и можно их найти даже в том, как они заблуждаются и что думают о себе, воображая недоступное опыту. Исследуя шаманство у тюркских народов, Радлов воссоздал совершенно аналогичную картину. Когда рождался степной человек, в борьбу за него вступали так же две мощные силы. Верховным властителем светлого начала, желающим новорождённому всяческого добра, был Бай Улгон. Он приставляет к нему своего йайучи, который бережёт его жизнь и душу, не даёт сбиться с пути. Это доброе существо встаёт с правой стороны от младенца и сопровождает его всю жизнь. Другой посланец – от злого божества Эрлика – определяет себя с левой стороны. Зовут его кормос. И вот они, соревнуясь, записывают на свои неподкупные доски добрые и злые дела человека. Потом, когда заканчивается его земное существование, оба они – йайучи и кормос, хватают живую ещё душу и мчат на седьмой небесный ярус, чтобы судить ее. Если добрых дел за душой этой числится больше, чем недобрых, силы зла теряют над ним власть, и торжествующий посланник доброго божества выносит светлую душу из царства тьмы…
Вера в зловещую суть левой стороны очень давняя в славянском веровании. В древнем арконском языческом храме специально для гаданий держали белого коня. Думали, что на нем ездит по ночам один из грозных верховных богов – Святовид. И когда надо было принять важное для всего народа решение, связанное с военными делами, например, тогда выводили этого коня из храма, подложив под ноги копья. Если он перешагивал через них сначала правой ногой, то древние предки наши ждали всяческих успехов…
И если перестать замечать, какой ты держишься стороны – правой или левой, то легко душу свою потерять. Или, хуже того, перестав сознавать её цену, разменять на мелкие и временные блага. По старым нашим понятиям это означало продать душу дьяволу.
Есть в древней русской литературе потрясающая «Повесть о Савве Грудцине», отечественный вариант «Фауста». Гениальный всплеск безымянного, будем считать – народного, ума. Её следовало бы переложить на потребу сегодняшнего дня писателем с возможностями Замятина, Зайцева или Ремизова.
Как-то думалось, что сюжеты такие, несмотря на прекрасное воплощение, рождаются чисто умозрительно. По аналогии, допустим, с евангельским искушением Христа, когда дьявол привёл его на «весьма высокую гору», показал ему все царства мира и сказал: «Всё это дам тебе, если, падши, поклонишься мне».
Оказалось, что и в жизни такие сюжеты бывали. Может быть, конечно, не часто. Самый последний зафиксированный в печати случай произошёл в сороковом году просвещенного девятнадцатого века, за год до смерти Лермонтова. Это подлинное судное дело опубликовано в октябрьской книжке «Русской старины» за 1886 год. Исключительно любопытное дело как по сути, так и по доказательству, какую власть имеет суеверие над непредсказуемой русской душой, которую, по Бердяеву, сформировали два совершенно противоположных начала – природная, языческая, дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие.
Вот такая история тогда произошла, цитирую подлинное судное дело того времени:
«Писарь Дубовцов (Фадей), 24 лет от роду, в течение 8-летней службы вёл себя дурно и часто предавался пьянству, за что многократно был наказываем розгами. В половине февраля (числа не помнит) 1840 г., находясь в конторе госпиталя вместе с (Иваном) Седельниковым, он расковырял себе нос и кровью написал на четвертушке бумаги следующее: “1840 г., я, нижеподписавшийся, даю сие рукописание князю аггелов в том, что хочу служить им, а от Бога и креста православной веры отрекаюсь, никогда быть и веровать православной вере не буду только с тем, чтобы мне служили сколько-нибудь аггелов, что я захочу, и чтоб мне повиновались и все слушали, раб твой Фадей”.
1 марта, в 9 часов утра, рядовой госпитальной команды Артемий Озаров нашёл эту записку на дворе и представил в контору. Смотритель конторы Флигепринг препроводил её при рапорте нарвскому коменданту, свиты его величества генерал-майору барону Велио; барон Велио отнесся к командиру гренадерского его величества короля прусского полка, генерал-майору Липранди, о назначении одного штабс-офицера и полкового аудитора для производства следствия, вместе с назначенными со стороны коменданта одним обер-офицером и смотрителем госпиталя.
8 марта 1840 года комиссия начала следствие.
При первом допросе Дубовцов сознался в написании кровью записки, но при этом показал, что сделал это по совету Седельникова; в подтверждение своего оговора он рассказал комиссии, что в феврале (число не помнит), когда он остался в конторе с Седельниковым, последний сказал ему, что знает человека, который обоим им может составить счастье, но что прежде нужно выпариться в бане берёзовым веником, окатиться холодною водою, и если на теле останется три берёзовые листка, то отнести их к этому человеку.
Дубовцов этому не поверил.
Через несколько дней Седельников предложил ему другое, более верное, средство сделаться счастливым; средство это и заключалось в написании кровью записки к князю аггелов. На этот раз Дубовцов исполнил совет, написал кровью записку и спрятал в карман, а Седельников обещал ему через несколько дней дать наставление, как поступить с этой запиской. Действительно, через два дня Седельников дал Дубовцову письменное наставление, которое и найдено было в кармане сюртука этого последнего. В наставлении было написано: “Идти в 12 часов ночи в глухое место, взять с собою рукописание и крест, положить в пятку, повернуться на ней три раза и говорить: чёрный бог! приди ко мне, помоги мне, возьми душу мою и служи мне во всем”.
Получив это наставление, Дубовцов думал исполнить свой замысел с 28 на 29 февраля; он лёг вечером в конторе и приказал стоявшему у денежного сундука часовому разбудить себя в 11 часов. Часовой разбудил. Дубовцов вышел из конторы на двор, но в это самое время запели петухи, из чего он заключил, что опоздал, а потому вернулся в контору и снова лег спать. Каким образом он потерял свое рукописание – того не знает.
Рядовой Седельников от всего показанного Дубовцовым отказался, и вся деятельность комиссии направлена была к его изобличению. Повальный обыск, сделанный в месте служения Седельникова, равно как и запросы в Тульскую губернию, в гимназию, в которой Седельников окончил два класса, и во 2-й департамент московского уездного суда, где он служил подканцеляристом 7 месяцев и 12 дней,– обнаружил, что Седельников в вере твёрд, поведения благочестивого и у св. причастия бывает; так же отозвалась о нём и мать подсудимого, проживавшая в Москве. В службу вступил Седельников по найму и полученные деньги отдал матери, чтобы вывести её из крайней нищеты. Это подтвердила и московская казённая палата.
При всём том, однако, улики, представленные Дубовцовым против Седельникова, были весьма сильны. Одиннадцать опытных и весьма сведущих аудиторов признали, что наставление Дубовцову писано рукою Седельникова, а не чьей-либо другою, а потому комиссия и оставила его в сильном подозрении в склонении Дубовцова к этому противозаконному поступку.
Управляющий с.-петербургскою комиссариатскою комиссиею полковник Княжнин предал Дубовцова и Седельникова военному суду при с.-петербургском ордонанс-гаузе 13 июня 1840 г.
21 сентября того же года комиссия военного суда постановила следующую сентенцию: