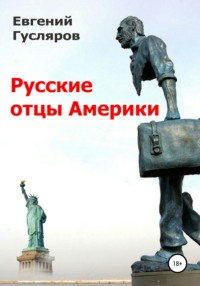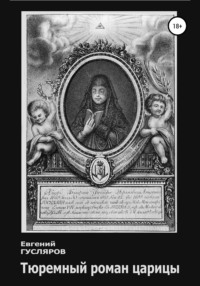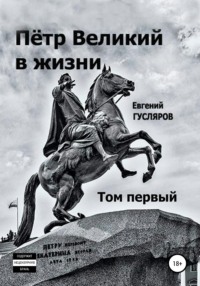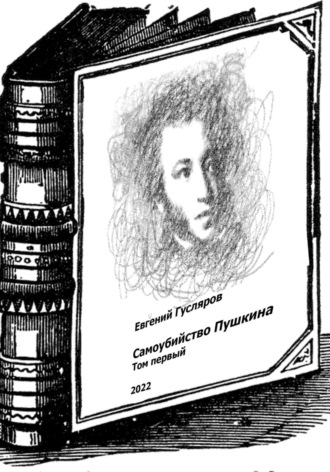
Самоубийство Пушкина. Том первый
И еще: «Тот, кто в состоянии понять из этих случаев и из многих других, которые будут изложены в этой книге, какая прямая и тесная связь обнаруживается между новейшей культурой и состоянием самого грубого дикаря, не захочет обвинять исследователей, уделяющих внимание и труд изучению даже самых низших и ничтожных фактов этнографии, в том, что они тратят время на удовлетворение пустого любопытства».
После этого вернёмся, всё же, к тому, к чему нас подталкивает Пушкин.
Он святки любил. Он знал их. Многочисленные строки его романа – это как бы признание за этим праздником первенства среди всех остальных украшений весёлого народного быта.
Рано или поздно мы задумаемся над тем, как бы вернуть себе всё то, что потеряно нами. Задумаемся мы и о том, чтобы вернуть богатство народное – самобытные праздники его. Татьяна станет тогда дарительницей нашей. Она помнит, а значит, и хранит для нас трогательные детали этих празднеств, а святок особенно.
Я верю, что не так уж далеко то время, когда оставшиеся лучшие знатоки получат славный заказ себе – обдумать и восстановить для нас прекрасные черты души народной. И окажется тогда, что истина нужна не только для того, чтобы доподлинно знать нашу историю, и то, сколько в ней было печали и горя. Нам нужно знать и о веселье своём. Редко, да ведь бывал же человек русский доволен тем, что выпала ему непростая, но великолепная доля видеть солнце. Выпало побывать на этом свете. Живым среди живых… Мгновения, в которые осознаем мы это, не есть ли самые вершинные в нашем житейском ощущении счастья? Тогда и самая бесшабашная радость простительна нам.
Да ведь можно и опередить тех обстоятельных людей, которые сочинят нам трактат о русском веселье. Тем более что существует эта соблазнительная возможность – взять, как Пушкин, в проводники по святочному селу самое Татьяну и поглядеть, чем в эти вечера занят православный люд.
Татьяна, как я думаю, жила недалеко от Михайловского. В Тригорском, например. Есть у Татьяны здесь подруги, такие же «русские души», как она сама, – Екатерина и Мария, а также Анна и Евпраксия. Нынче наступит Васильев вечер, и тут с нетерпением ждут молодого и ласкового ко всем соседа Пушкина. А он сейчас велел запрягать коня в сани с медвежьей полстью (на дворе – морозец) и думает, наверное, о том, чтобы, не дай Бог, не попался ему навстречу поп, или заяц не перебежал дорогу, да чтобы Арина Родионовна некстати не вышла на крыльцо с забытым носовым платком…
Вот раздался звон колокольчика у крыльца. Это Пушкин. Он вбежал – чёрный, улыбчивый, живой, как ртуть, стал сбивать рукой, одетой в вязаную варежку, сосульки с бакенбардов. За ним, виновато виляя хвостом, вошла собака. Её не стали гнать: знали – Пушкин заступится.
…Стали гадать на воске. Пушкин взялся быть консультантом. То ли в самом деле знал. То ли прикидывался и готов был подшутить. Судя по серьёзному взгляду, кажется, в этот раз почтение к гаданию будет соблюдено.
Сторожу Агафону велено было принести ведро воды студеной. Девицы взяли по бокалу прозрачному, зачерпнули из ведра. Стали лить сквозь материно обручальное кольцо нагретый воск. Попадая в холодную воду, воск мгновенно застывал, схватывался в виде затейливых фигурок.
«Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит…» – отлилась у Пушкина строчка, которую он не знает ещё, куда определить. Но то, что этот вечер обязательно запомнится ему и, отстоявшись, ляжет со временем в затейливое кружево грандиозного, уже начинающего бередить воображение замысла, абсолютно ясно.
Пушкин поочерёдно брал бокалы, рассматривал их на просвет. Благо, свечи были яркие, праздничные. Фигурки, в основном, похожи были на покосившиеся церквушки. Это значило, что всем можно обещать скорое замужество… Анне, которая была постарше других, и считалось уже, что она несколько засиделась в девках, гадали особо. Вместо воску плавили олово старых ложек и так же лили его в холодную воду. И ей Пушкин нагадал скорую свадьбу. Жалел нынче Александр Сергеевич деревенских подруг своих. Жалел, а потому и был щедрым. Смеялись все его одинаковым посулам.
Потом из-под стола заметали по очереди мусор, искали хлебное зерно – тоже к замужеству.
Сняли все кольца свои, связали ниткой единой. И Пушкин снял было с большого пальца «талисман», подаренный ему в Одессе молодой княгиней Воронцовой, да Прасковья Александровна не допустила, чтобы эта «басурманская штука», не дай Господь, не повлияла на русскую забаву и не испортила правдивые святочные предвещания. Да и на судьбу чью-нибудь не повлияла.
И от этого останется у Пушкина строчка: «Из блюда, полного водою, выходят кольца чередою…». Надо было медленно вынимать из воды связанные ниткой кольца и внимательно слушать, что происходит за окном. Это серьёзное дело доверили девушки Пушкину, а сами сидели настороже, чутко прислушиваясь и стараясь не пропустить своего кольца. Татьянино кольцо вынулось потом у Пушкина, когда кто-то неожиданно грянул за окном «песенку старинных дней» со словами: «Там мужички-то все богаты…» и т.д. Александр Сергеевич будто не заметил этого. Во всяком случае, комментировать не стал. Только позже, уже в романе, он даст такую отгадку этому случаю: «…сулит утраты сей песни жалостный напев: милей кошурка сердцу дев».
Видно, тогда уже смысл этого гадания не был достаточно знаком большинству, потому что поэт посчитал нужным уточнить его (в романе, конечно, а не при том памятном гаданье в Васильев вечер) специальным примечанием:
«Зовёт кот кошурку
В печурку спать.
Предвещание свадьбы: первая песнь предвещает смерть». Хотя, может быть, всего этого в тот вечер и не было, а Пушкин специально придумал это для романа, потому что надо было подготовить читателей к тому, что будет чья-то погибель на страницах его.
А уж этот-то насмешивший всех случай был точно. Вывесили за окошко ключи и щётку. Погасили свечи, чтоб темней было, и стали ждать – кто пройдёт мимо, а ещё лучше, если заденет или ключи, или щётку. Тогда надо будет спросить: «Как звать?». Какое имя прохожий назовёт, таким будет имя суженого. По жребию выпало спрашивать Анне.
И надо же так случиться, что неугомонный старик Агафон, от скуки, опять пошёл за водой в прорубь. И мимо окна. Ключи зазвенели…
Чу… снег хрустит… прохожий: дева
К нему на цыпочках спешит
И голосок её звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.
Смеялись все. И особенно Агафон, уронивши пустое ведро и обессиленно приседая на корточки… И, осмелевши, подлил масла в разгоревшееся веселье. Рассказал давнее, незабытое.
– Как был помоложе, так тоже гадали. У нас другое было. Девки ходили в сараюшки да овец лентами обвязывали, а кто и коров… Утром смотрели, чья овца или корова станет головой к воротам, то готовь девка приданное, замуж нонче возьмут. Если боком, аль хуже того, задом – куковать тебе, девонька, ещё год в ожидании… Вот как-то раз начали наши девки ворожить да гадать, пошли в овчарух, значит, повязали овец поясами. А мы, робята молодые, чтоб, значит, досадить им, овец-то поразвязали, наловили собак, да их поясами и окоротали, да в овчарне и оставили. Девки наши поутру-то пришли, глядь, а вместо овец – собаки. И что ж бы вы думали. Ведь девки-то те замуж повыходили да и жили всю жизнь с мужиками своими, как собаки цепные. Я вот со своей тоже намаялся…
* * *
…Этот ли, или иные вечера повлияли, но в «Евгении Онегине» и в самом деле собрано множество сведений, которые замечательно ложатся в нашу энциклопедию (будем по-прежнему так громко называть наше дело) пушкинского суеверия.
«На месяц зеркало наводит…». Лучшее время для гадания с зеркалом был вечер, да когда ещё луна слегка покрывается налетающими облаками. В зеркале вместо полного месяца может отразиться тогда лицо милого дружка, завтрашнего жениха. Если Пушкин докапывался до истоков и этого суеверного занятия, то он мог узнать, что пришло оно к нам из древней Греции. На языке фессалийских жрецов называлось оно энонтомантией. На зеркалах, выставляемых древнегреческими чародеями, появлялись писаные красным (думалось, что это кровь) строки, которые говорили о будущем.
Русское гадание сильно от этого отличается. У Жуковского выглядит оно, например, так:
…стол накрыт Белой пеленою
И на том столе стоит Зеркало с свечою:
Два прибора на столе.
«Загадай, Светлана;
В чистом зеркала стекле
В полночь без обмана
Ты узнаешь жребий свой;
Стукнет в двери милый твой
Легкою рукою;
Упадет с двери запор;
Сядет он за свой прибор
Ужинать с тобою.
Я так думаю, что Жуковский этот романтический ритуал изобрёл собственноручно. Прочитавши гору книг о русском суеверии, я подобной подготовки к банному гаданию не отыскал. Тут, по крайней мере, путаница из двух гаданий. Если говорить о гадании в бане, то чаще всего дело происходило следующим образом. Вначале девушки собирались у овина. Жутковатое это строение с растрепанной соломенной крышей, поднявшееся над землей, будто на ногах, на деревянных столбах-ходулях, святочной ночью в девичьем воображении совершенно преображалось. Здесь оживал озорной, а порой и недобрый дух – овинник. Вставши к овину спиной и приподнявши сарафан, можно было загадать о сокровенном. Каждая по отдельности ждала тут своего приговора. Если овинник погладит мохнатой рукой, значит, повезет невесте и выйдет она за богатого жениха, если рука покажется девушке гладкой – жить ей, может, и за милым сердцу, но бедным парнем.
Только погадав таким образом у овина, девушки всей гурьбой шли к бане. Тут также было страшновато. Бани строились, по традиции, в местах гиблых, на краю оврагов, в низинах на задах огородов. Да будь она построена и в любом другом месте, всё равно оно, это место, сразу же становилось страховитым. Бани были излюбленным местом сборищ всяческой нечисти. С переночевавшим по необходимости в бане или с мывшимся не в очередь случались порой такие истории, что человек седел в одночасье.
В банях девушки сыпали золу на пол. Если утром обозначен был на ней след сапога – жить с богатым, лаптя – с бедным. Если будет след, будто ударили по золе кнутом, – муж будет строг и будет поколачивать.
Повторялось и то, что было в овине, только становиться к печурке надо было передом. Тут-то и могли не совсем безобидно подшутить деревенские кавалеры. В этнографическое бюро князя В.И. Тенишева в своё время, поступило вот такое сообщение о святочном происшествии в Пензенском уезде. Юная гадальщица умерла от испуга, когда её из озорства схватил в бане её же собственный ухажер.
Кстати сказать, известный когда-то Иван Петрович Сахаров, утверждавший на множестве примеров, что русское суеверие не могло вырасти на отечественной почве, а полностью восприняло разнообразные греческие варианты, и для гадания на золе нашел «еллинский» эквивалент и назвал его тефраномантией. У русских колдунов и чернокнижников зола была в наибольшем употреблении. Золой, взятой из семи печей, легко можно было навести чары на человека. И я ещё помню, что в моей деревне озлобленные соседки посыпали тайно, ночью, друг другу огороды и огуречные грядки золой, чтобы ничего не выросло ни в огороде, ни на гряде.
Еще о золе. У каждой барской девушки прежде нянюшка была. В святочную ночь у них появлялась особая обязанность. В сито набиралась зола, и сеяла нянюшка впотьмах на девичьи башмаки, потом, впотьмах также, ставила башмаки спящим под кровать. Утром выходила запланированная неожиданность. Смотрели на башмаки. На чьих золы было больше, та будто бы жить будет богаче…
Если добираться и тут до корней, как это всегда хотелось Пушкину, то окажется следующее. В широко ивестном когда-то «Слове Иоанна Златоуста о том како погани кланялися идолам» было небольшое собрание деталей первоначального славянского суеверия. Собрано все это было, разумеется, затем, чтобы обличить суеверов. Оказывается, далёкие предки наши в урочный час топили бани затем, что заботились о своих предках, делали им добро, чтобы их умилостивить. Они думали, что предки в этот час приходят мыться, и сыпали пепел в бане, чтобы по следам узнать, приходили они или нет. С тех пор страшна и притягательна русская банька для пугливой суеверной души.
Во времена Пушкина страхи эти несколько рассеялись. Теперь рассыпают золу (не обязательно в бане) с приговором: «Суженый богатый, ступи сапогом, суженый бедный – лаптем…». По следу невесте наутро, как говорилось уже, ясно становилось – богатой или бедной будет она в семейной жизни…
И если уж продолжить о гадании с зеркалами, то нам не обойтись без выписки из «Сказаний русского народа», собранных И.П. Сахаровым. При нынешнем, быстро возрождающемся интересе к древностям русского духа, я думаю, мы, хотя бы из почтительного любознания, а вернём в свой праздничный быт и старые гадания. Не из суеверия, конечно, а из уважения к духовной истории предков, да и просто из-за великолепной перспективы вернуть серому течению массовых, заорганизованных праздников наших живые краски традиций.
«Самое действенное гадание в зеркале совершается на дворе при лунном сиянии, во время святочных вечеров. Впрочем, по необходимости, совершается и в доме, и притом во всякое время. Лучшим временем для этого гадания признается полночь, при тусклом комнатном свете, при всеобщем молчании.
Гадание в зеркале не принадлежит к кругу изобретений русских ворожеек; оно перешло в наше отечество из других земель. Суеверные греки, получившие это завещание от древней восточной жизни, осуществляли его своими таинствами, приноравливали к разным обстоятельствам и потом, вместе с просвещением, передали его разным народам. Как чудесный вымысел, как обольстительное обаяние, оно пережило века, нравилось всем народам, изменялось по прихоти каждой ворожеи. Наконец довелось участвовать в ней и русской жизни.
Наши ворожеи, собираясь гадать в зеркале, избирают уединённую комнату, берут два зеркала, одно большое, другое поменьше. Ровно в 12 часов ночи начинается гадание. Большое зеркало ставят на столе, против него маленькое; гадающая садится перед зеркалом, обставленным свечами. Все окружающие соблюдают глубокое молчание, сидя в стороне; одна, только гадающая смотрит в зеркало. В это время в большом зеркале начинают показываться одно за другим 12 зеркал. Как скоро будут наведены зеркала, то в последнем из них отражается загадываемый предмет. Но так как явление не всегда показывается, то начинают другие наводить. Верный признак наведения есть тусклость зеркала, которое протирают полотенцем. Наши ворожеи думают, что суженый, вызванный поневоле этим гаданием, приходит в гадательную комнату и смотрит в зеркало через плечо своей суженой.
Суженая, бодрая и смелая, всегда рассматривает все черты лица, платье и другие его приметы. Когда она кончит свой обзор, тогда кричит: “Чур сего места!” При этом чурании привидение вдруг исчезает. Старушки уверяют, что если суженая не зачурает привидение, тогда оно садится за стол, вынимает из кармана что-нибудь, кладёт на стол. Догадливые гадальщицы в роковой миг начинают чурать; привидение исчезает, а оставленная на столе вещь остается в её пользу. Последствия оправдывают ожидания ворожеек: оставленная вещь будто всегда похищается у жениха в то самое время, когда его суженая наводит зеркала. Самое важное обстоятельство в этом гадании есть слова: “Суженый, ряженой! Покажись мне в зеркале” – и мысль об нём до появления двенадцатого зеркала.
Почти всеобщая уверенность в действительности сего гадания заслуживает сожаления о заблуждении людей, доступных этому верованию. Установка зеркал, отражающих мелькающие тени присутствующих людей при гадании сообразно законам оптики; разгорячаемое воображение, устремляемое на известный предмет; вера в действительность сего гадания, подтверждаемая рассказами старух; воспитание, не очищенное от предрассудков, – служат основными началами этой ворожбы. Истинное образование ума, непременная вера в Бога, усилия людей благомыслящих, может быть, со временем избавят наших соотечественников от явного заблуждения».
Так что зеркала и бани совсем не обязательно связывать в одно гадание. И чтобы уж закончить об этом, доскажем о бане.
Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне…
И я – при мысли о Светлане
Мне стало страшно – так и быть…
С Татьяной нам не ворожить.
Как всё выглядело бы, если Татьяна всё-таки решилась бы гадать в бане, мы уже знаем. Почему ей стало так страшно, знаем тоже.
Стоит добавить только, что на Руси банька ещё недавно было заведение не такое простое, как теперь. Это не было место, где лучше всего после сухого пара пьётся пиво с соленой рыбкой. Банька была праздником и лечебницей. Здесь человек не просто мылся, а совершал обряд очищения. Для того служили первые три пара. В русских деревнях и теперь топят баню так, и рассчитывают жар только на три перемены. В смысл этого, конечно, не вникают. А прежде человек в бане не мылся четвёртым, в четвёртую очередь, потому что поселившийся в бане дух её, баенник, сильно поизмывался бы над этим человеком, поскольку четвёртым мылся в бане обязательно он сам, наступал его непререкаемый черед. И никому он эту очередь не намерен был уступать просто так. Он мог и обварить кипятком, и угаром удавить, мог каменку обвалить на невежу, посмевшего помешать ему.
Но в общем веселье святок и баенник делался милостивее, особенно к молодому женскому полу. Он охотно помогал ему выяснить некоторые важные обстоятельства будущего. И, самое главное, мог показать жениха, как мы это выяснили уже.
Насколько я понимаю, Пушкин в подготовке гаданья Татьяны Лариной в бане воспользовался подсказкой Жуковского. Но, поскольку не захотел повторять всего, что сказано уже в его балладе о Светлане, как-то уж очень просто, со, смелостью, свойственной, наверное, только гениальным сочинителям, прервал течение романа на самом интересном месте, очень непосредственно сославшись на то, что и сам побаивается за свою героиню…
* * *
Можно попытаться внести в наше исследование святочных гаданий некий научный флёр. Если бы от меня того потребовали, я бы разделил эти гадания строго на три части. К первой бы отнёс то, что полагалось делать до заповеданных двенадцати часов. Это были гадания как бы не на полном серьёзе, шла подготовка к настоящим, к которым и время и тайная сила, включающаяся, по поверьям, в те часы, заставляли относиться с максимальным почтением.
До двенадцати часов можно было бросать за ворота башмачок. Отгадка тут была очень простой. Если башмачок падал и показывал при том носком от ворот – девушка могла быть уверенной, что выйдет скоро замуж.
Гадальщики осторожно подкрадывались к окну и старались услышать, о чем шёл разговор. Отдельные долетающие фразы имели свойство предсказаний.
Ходили к церкви и слушали, что в ней, пустой, происходит. Если чудилось нечто, похожее на венчальное действо, то можно было ожидать в этом году свадьбы. Но на это редкий отваживался, поскольку ужасными были другие предвестия, которые пророчили смерть.
То же самое происходило у пустых и полных амбаров. Если слышался шум, как будто сыплется зерно в кучу, то это предвещало богатую жизнь.
Как стемнеет, идут в сарай или туда, где сложена на зиму поленница дров. Вынимают из неё полено. Дома на свету рассматривают. Если полено суковатое и кривое, то жених будет под стать ему, недобрый и некрасивый. Если полено гладкое да ровное, то муж будет пригожий и ласковый.
При выходе из конюшни, невысоко, держат оглоблю. Если лошадь, выходя, заденет оглоблю ногой, то муж попадется злой, если же лошадь захочет перескочить оглоблю, то муж будет человек хороший.
Попадется тын или лестница, считают колья или перекладины, приговаривая: «Вдовец, молодец» или: «старый, вдовый, молодой». На каком слове закончится городьба или лестничные балясины, то и сбудется. Будет жених старый, вдовый или молодой парень.
Снимают в темноте курицу или петуха с насеста. По цвету перьев определяется цвет волос жениха.
Было и другое гадание с курицей. Её вносят в дом, ставят на пол или на стол, где приготовлено золото, серебро, медь. Участвуют в этом гадании также хлебное зерно, зеркала. Клюнет курица золото – богатой быть, серебро – посерёдке, медь – жить в бедности. Хлебное зерно обещает достаток. В зеркало курица заглянет – щеголеватый жених попадётся.
Некоторые полуночные гадания вызывали такой страх, что одному или одной были не по силам. Шли на такое гадание гурьбой. Все вместе – парни и девчата. К таким относилось гадание на перекрёстках дорог. Несколько человек усаживались под белой простыней или скатертью. Кто-то один, который в гаданье не участвовал, обводил вокруг гадающих круг. Это было уже явное обращение к нечистой силе. Круг относился к зловещим, антихристовым фигурам, потому что, когда разгневанный Господь Бог сбросил всех чертей с небес, они попадали на землю так, что следы от падения бесов образовывали правильные окружности. Потому и великолепные лесные грибы опята, вырастающие кругами, в православном народе почитались нечистыми, выращенными бесами.
Накрытые на перекрёстке простынями и скатертями с напряжением вслушивались в разнообразные звуки, которые могли доноситься до них. Отдалённый собачий лай значил, что жених будет издалека. Собака лаяла глухо и хрипло – жених будет старый и ворчливый, звонко и заливисто – молодой и весёлый. Звон колокольчика всегда означал близкую свадьбу и жениха с той стороны, откуда звон. Чаще всего, конечно, слышали то, что хотели слышать. Однако не дай Бог услышать удар топора – к смерти. Звук поцелуя – к потере девичьей чести, к любовному обману. При всем этом, никто не должен выходить из круга, пока тот, кто заключил в круг, не «расчертит» гадающих, иначе гадание не исполнится, а только новых бед добавит. Для того, чтобы расчертить, надо провести ещё один круг… И тут, вслед за Пушкиным, можно попробовать добраться до первопричинной жуткой славы росстаней (перекрестков дорог) как любимых мест, в которых сосредоточена нечистая сила.
По-разному, но одинаково убедительно объясняют это выдающиеся русские историки.
«Есть известие, – пишет С. М. Соловьев, – что у чехов на перекрестках совершались игрища в честь мёртвых с переряжением. Это известие объясняется обычаем наших восточных славян, которые, по летописи, ставили сосуды с прахом мертвецов на распутьях, перекрестках; отсюда до сих пор в народе суеверный страх перед перекрестками, мнение, что здесь собирается нечистая сила».
«Придорожные столбы, – как бы дополняет В.О. Ключевский, – на которых стояли сосуды с прахом предков, – это межевые знаки, охранявшие границы родового поля или дедовской усадьбы. Отсюда суеверный страх, овладевавший русским человеком на перекрёстках: здесь, на нейтральной почве, родич чувствовал себя на чужбине, не дома, за пределами сферы своих охранительных чуров… Покойника, совершив над ним тризну, сжигали, кости его собирали в малую посудину и ставили на столбы на распутьях, где скрещивались пути, т.е. сходились межи разных владений».
…Между тем пора девицам, после Васильева вечера и полуночных гаданий, ложиться спать. И на это время русский суеверный человек и его опыт припас кое-какие интересные вещи. К этому времени доспевало ещё одно тайное гадательное дело. Выставленный давно на мороз стакан с водой и обручальным кольцом замерз, и его можно рассмотреть перед сном. Бугорки на ледяной поверхности – это будущие сынки (сколько будет бугорков – столько сынков), выемки означают дочерей.
С вечера на гребешки впотьмах были начесаны кудельки с пряжи. Теперь их можно рассмотреть, по цвету ворса и шерсти определить, опять же, цвет жениховых волос…
А утром юных невест ожидают новые волнующие отгадки и ответы.
Кто-то из них, не снявши чулок с ноги, проговорит перед сном: «Суженый-ряженый, разуй меня». Кто во сне придет «разувать» девицу, тот потом и замуж возьмёт.
А другая примкнёт к поясу замок и скажет почти то же: «Суженый-ряженый, отомкни меня». И должна будет запомнить, кто приходил к ней во сне с ключом.
Квадрат из четырёх лучинок под подушкой означает колодец. Будущий жених обязательно придет к нему напоить коня. Только и тут, конечно, надо сказать перед сном: «Суженый-ряженый, приезжай коня поить».
Или из тех же лучинок складывается мостик, и невеста призывает своего будущего жениха провести себя по нему.
Можно положить под подушку расчёску, и гребёнку. Милый сердцу придёт волосы причесать себе или невесте своей.
Из наперстка соли съедят и позовут водицы напиться подать…
Так случилось, что реконструкция моя суеверных обычаев опиралась, в основном, на старые, полуторавековой давности, а то и более давние записи. И казалось мне потому, что дело, которым я занимаюсь, практически невосстановимо. Долго надо приживлять порушенную веточку на великом древе народной культуры, чтобы она прижилась, вспомнилась, выбросила первые зеленые листочки.