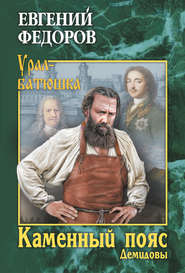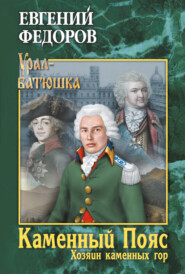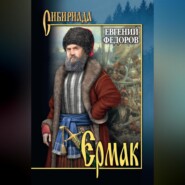По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ермак. Том I
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Клубы пыли все гуще, все ближе. Кони скакали бешено и дико – так уносятся они от волка или злого врага.
– Вести несут! – сурово сказал есаул и, не задумываясь, повелел: – Бей в набат!
Частые тревожные удары нарушили застывшую тишину и разбудили станицу.
По куреням, на базах, у кринички, где женки брали воду, пошел зов:
– На майдан! На майдан!
С разных сторон на площадь бежали казаки, на ходу надевая кафтаны и опоясывая сабли. Начались шум, толкотня, перебранки. Лишь старые бывалые казаки, украшенные сабельными рубцами, шли неторопливо, чинно, горделиво держа головы. Они-то наслышались, накричались и повоевали на своем веку! Всякую тревогу и невзгоду перенесли, в семи водах тонули и выплыли, истекали кровью да не умерли, – живуч казачий корень, – и теперь многому могли поучить молодых и ничего не страшились.
На станичную улицу лихо ворвалась ватажка удалых.
– Эй, погляди, среди них татарин! – закричала женка.
– Брысь отсель! – огрызнулся на нее густобородый дед. – Кш… Кш… На майдане – не бабье дело!
Молодка вспыхнула, порывалась на дерзость, но вовремя одумалась: за неуважение к старику могли тут же, на майдане, задрав подол, отхлестать плетью.
«Фу ты, ну ты, старый кочет!» – озорно подумала она и нырнула, как серебристая плотвичка, в самую гущу толпы.
Вот наконец и ватага! Кони взмылены, лица у казаков усталые, пыльные. У иных кровь запеклась. Впереди Петро Полетай, а рядом Ермак. Тут же позади и Богдан Брязга и Дударек. Увидя сына, мать всплакнула:
– Жив, Богдашка! Кровинушка моя…
Среди казаков на чалом ногайском коне сидел молодой татарин, обезоруженный, со скрученными за спину руками.
Ватажка въехала в толпу. Потные кони дышали тяжело, с удил падала желтая пена. Одетые в потертые чекмени, в шапках со шлыками из сукна, удальцы держались браво. Пробираясь сквозь толпу, они кланялись народу, перекликались с родными и знакомыми:
– Честному лыцарству!
– Тихому Дону!
Позвякивали уздечки, поблескивали сабельки, покачивались привешенные к седлам саадаки с луками и стрелами. Лица у ватажников строгие, обветренные. Выбритый досиня гололобый татарин испуганно жался, жалобно скалил острые зубы, а у самого глаза воровские, злые. Его проворно стащили с коня и толкнули в круг. Спешились и казаки. Кони их сами побрели из людской толчеи. Волнение усилилось, хлестнуло круче, людской гомон стал сильнее.
Минута, и все затихло: из станичной избы показались старики. Они несли регалии: белый бунчук, пернач и хоругвь – символы атаманской власти. За седобородыми дедами важно выступали есаулы, а среди них атаман.
Ермак вытянул шею и подивился казачьему кругу. На этот раз с еще большей важностью двигался тучный Бзыга. Пот лился с его толстого обрюзглого лица, слышно было, как дыхание со свистом вырывалось из груди. Атаман задыхался от ожирения. Но как ни пыжился, ни надувался важностью Бзыга, а все же уловил Ермак в его глазах скрытую трусость.
Площадь замерла, и только в голубой выси хлопали крыльями сизые турманы. Такое затишье наступает обычно перед грозой.
– Сказывай, казаки, с чем пожаловали? – громко окрикнул атаман ватажников.
Петро Полетай выступил вперед и чинно поклонился.
– Браты, атаман и все казачество! – чеканя каждое слово, громко сказал он. – Турецкая хмара занялась с моря и Перекопа. Идут великие тысячи: янычары и спаги, а с ними крымская орда. Под конскими копытами земля дрожит-стонет! Идут, окаянные. Дознались мы, рвутся басурманы через донские степи на Астрахань…
– Слышали, станичники? – возвысив голос, спросил атаман. – Слышали, что враг близко?
– Слышали, слышали! – отозвались в толпе.
– А еще что видели? – снова спросил Бзыга.
Петро Полетай поднял голову и продолжал с горечью:
– Видели мы своими очами – горят понизовые станицы. Дети и женки плачут… Вот полоняник скажет, кто сюда жалует!
Сильные руки подхватили татарина и вытолкнули на видное место.
– Сказывай, шакал, кто на Русь идет?
Татарин съежился, как под ударами хлестких бичей. Заговорил быстро и еле внятно.
Переводчик, громоздкий усатый казак, старый рубака, пробывший четверть века в полоне у крымчаков, перехватывал трусливую речь и переводил:
– Просит не убивать.
– А сам с чем шел, не наших ли женок и детей рубить да насильничать. Спрашивай его, бритую образину, о другом! – зашумели вокруг.
Атаман сделал рукой знак. Казаки опять стихли, сдержали страсти, охватившие их сердца. Переводчик спросил пленника и выкрикнул:
– Сказывает, сам Касим-паша с большим войском идет, а с ним Девлет-Гирей спешит с мурзами. Орду ведет. Из Азова плывут турские ладьи с пушками и ядрами. Из Кафы янычары добираются. И еще сказывает, трое ден тому назад передовые татарские загоны в четыре поприща[4 - Поприще – расстояние, которое пробегает конь от отдыха до отдыха.] отсель были. Жгли степные заимки, низовые городки…
– Стой, мурло татарское, – перебил полоняника атаман, – говори толком, кто орду ведет: сам ли Девлет-Гирей или сынки его, стервятники подлые! Чем оборужены и что затеяли.
Татарин снова залопотал.
– Беклербег кафийский конников ведет! – оповестил толмач. – А с ним шесть сенжаков. С ордой хан Девлет-Гирей… Идут на Переволоку, а другие через Муджарские степи…
– Слыхали, станичники: орда идет, великая гроза занимается! – поднял голос атаман. – Рассудите казаки, тут ли, в куренях, будем отбиваться, аль со всем Доном в Поле уйдем, день и ночь будем врагу не давать покою и роздыху. Как, станичники?
– День и ночь не давать басурманам покоя! – дружно ответили станичники. – Любы твои слова, атаман!
– Этой ночью станица уйдет в донские камыши да овражины, в лесные поросли! С волками жить – по-волчьи выть. В сабли татар и турок! Выжгем все!
– В сабли! На меч, на острый нож зверюг!
Присудили станичники: темной ночью всем – и старым и малым – укрыться в степных балках, в укромных местах. Пусть достанутся в добычу злому татарину и жадному турку пустые мазанки да быльняк. А уйдет орда, все снова зашумит-заживет.
– Ух ты, жизнь – перекати-поле! – горько усмехнулся Ермак и вместе с казаками побрел с майдана. Конь его уже был на базу. Хозяин бережливо обтер полой своего кафтана скакуна и покрыл ковром. В мазанку не вошел – вспомнил еще не зажившее. Сгреб под поветью охапку камыша и разостлал под яблонькой.
Мысли набегали одна на другую. За соседним плетнем заголосила молодица.
«Загулявший казак побил, – подумал Ермак, заворочался и опять вспомнил свое житье. – Набедокурила, лукавая».
Он старался успокоить себя, но не мог: тревожил женский плач. Не вытерпел казак, поднялся и пошел на причитания. На земле, среди полыни, сидела простоволосая женка в одной толстой грязной рубахе, поверх которой накинут дырявый татарский шумпан. Молодая, крепкая, словно орешек, только радоваться, а она слезы льет.
– О чем плачешь, беспутная? – строго спросил женку Ермак.