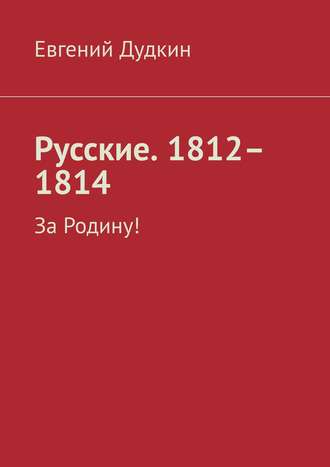
Русские. 1812–1814. За Родину!
В БЕЛОРУССИИ.
Сотня Кузнецова шла на правом фланге арьергарда и каждый день имела стычки с польскими уланами и вюртембергскими конно-егерями. Если уланы все время лезли на рожон и атаковали зло и храбро, то немецкие егеря в своих зелёных мундирах быстро исчезали при первых выстрелах, но затем преследовали казаков упорно и не отставали.
Кузнецов видел, что люди за последние дни устали и требовался отдых, но просить о выводе сотни из боев не хотел до последнего. Лишь сегодня, после серьезной стычки с потерями, вместе с ранеными он послал вестового в полк и попросил рассказать полковнику о положении. Преследователей хорошо потрепали и они, зализывая свои раны, пока не показывались, а у сотни появилась возможность перевести дух.
Миновав густой сосновый бор, казаки выехали, наконец, в чистое поле, на краю которого, у небольшого озера раскинулась деревня, а, чуть в стороне, виднелся и деревянный господский дом в окружении лип и берез.
Армия шла от этих мест немного стороной и ее близкое соседство еще пока никак не отразилось на деревне и ее жителях. На околице встретились несколько мужиков, которые поведали, что деревня называется Стрижево и принадлежит она пану Казимиру Куклевскому, уехавшему несколько дней назад вместе со своим племяником Стахом в Вильно.
Кузнецов распорядился разбивать бивак и казаки рассыпались по деревне. Уже через четверть часа разгорелись костры, к которым один нес кур, выменянных на медвежью шапку французского гренадера, другие тащили барана, которого местный кузнец отдал за трофейный карабин, бабы, растроганные байками Вагина, наносили воды и разной нехитрой крестьянской снеди. Забулькал во всегда свято сохраняемых казаками медных котлах наваристый и ароматный кулеш. После ужина казаки разговорились с деревенскими, которые поведали, что их пан повез племяника определять к фрацузам в жолнеры, а своим хлопам пообещал скорую польскую власть. Кузнецов зарекся запомнить имя предателя.
На рассвете пение петухов слилось с отдаленной частой ружейной трескотней в бору. Прискакавший из пикета казак сообщил, что валом повалила французская пехота и кавалерия, а дозор отстреливается от фланкеров. Кузнецов послал вестового в полк с донесением и приказал быстро собраться и, не теряя из виду неприятеля, отходить к своим.
Пройдя несколько верст, сотня миновала эскадрон сумских гусар. Одетые в серого цвета доломаны и ментики, в красных чакчирах и черных киверах, усатые молодцы выглядили великолепно. У некоторых из них виднелись окровавленные повязки. Недавно они были в бою. Их командир, майор, приказывал им отойти на правый фланг ближе к гвардейской Черноморской сотне и 2-му Тептярскому казачьему полку. Дальше казаки вышли к позициям изготовившихся к бою егерей и батальону Бутырского пехотного полка. На фланге расположилась артиллерийская батарея из четырех орудий, а на правом берегу Двины в резерве стоял казачий полк Кузнецова. Есаул присоединился к своим и узнал, что командир корпуса генерал от инфантерии Д.С.Дохтуров приказал задержать французов, чтобы из местечка Бешенковичи на правый берег Зап. Двины успели вывезти магазины. Значит снова отступать, а пока…
Французы показались сразу в большом числе и стали строиться для атаки. Вперед лихо выскочила конная артиллерия и уже через несколько минут стала пристреливаться и посылать гранаты и ядра. Большие мастера! Наши пока молчали, но фейерверкеры держали в руках тлеющие запальники, а стволы единорогов с забитыми в них зарядами были наведены на противника. Вражеские гранаты не долетали, но ядра стали доставать до позиции русских и тогда батарея открыла ответный огонь. Рикошетирующая стрельба ядрами сразу внесла беспорядок в построение французской пехоты и она оттянулась немного назад.
К гусарам подошел еще один их эскадрон и они вместе с Черноморской сотней и тептярским полком укрылись в березняке слева и справа от бутырцев. Фланги пехоты теперь были прикрыты.
Через полчаса перестрелки из леса вытянулись и начали строиться для атаки эскадроны французских кавалеристов. По зеленым мундирам и каскам с красными и белыми султанами Кузнецов узнал в них драгун.
Не прошло и нескольких минут, как французские драгуны эскадрон за эскодроном, набирая ход, понеслись на пехотный батальон. Батарея перенесла огонь на них и стала бить картечью. Драгуны проскочили через неглубокий овраг, протянувшийся вдоль русских позиций, пошли рысью постепенно переходя в галоп. И тут дружные ружейные залпы бутырцев и егерей стали сметать их передовые ряды. Драгуны заметались. Сумские гусары и казаки уже были готовы их атаковать, но полк французской пехоты прикрыл драгун, а затем под треск барабанов в густых колоннах ринулся в атаку. Его готовились поддержать строившиеся по-эскадронно конные егеря и пришедшие в себя драгуны. Люди в синих мундирах и киверах с яркими красными и зелеными султанами быстро заполняли поле перед русскими позициями. Примерно за сотню метров до них французы приостановились и дали ружейный залп. Почти одновременно ряды русских опоясались ответным огнем и рявкнули все четыре их пушки. Французы остановились, будто натолкнулись на каменную стену. Последовал второй пушечный залп из трех орудий. С небольшим запозданием выстрелила картечью четвертая пушка. И этот выстрел решил дело. Французы не выдержали и под прикрытием своих стрелков повернули назад. Кавалерия их не поддержала.
Когда дым немного рассеялся, Кузнецов увидел, какие большие потери понесли стороны от этого скоротечного огневого боя. Передний ряд бутырцев лежал на земле, напротив поле было усеяно павшими французами. Часть из них лежало чуть ли не взводами – ужасное действие картечи, выпущенной в упор.
Французы выкатывали новые батареи.
Ординарец из штаба Дохтурова привез приказ генерала оставить позицию и присоединиться к армии. Магазины из Бешенковичей атаманцы под носом у французов успели переправить на правый берег. По броду в обмелевшей за последие жаркие дни Западной Двине вначале переправилась батарея, за ней бутырцы и егеря. После них реку переехали сумские гусары. Среди них виднелись два десятка пленных, судя по мундирам, конных егерей.
Кузнецов, которому было поручено прикрывать переправу, спросил у проезжавших гусар, где же они успели взять пленных? К нему подъехал гусарский офицер и представился командиром отряда – майором Самариным.
– Этих итальянцев мы взяли в разведке еще ночью на том берегу. Есаул, у меня к Вам просьба – не до них сейчас, мои люди очень устали, а надо догонять свой полк. Возьмите пленных под свой конвой и потом передайте их в штаб. Они из корпуса итальянского вице-короля и могут рассказать в штабе кое-что интересное. Я только что разговаривал с Вашим полковником и он согласен.
Кузнецов распорядился и казаки приняли у гусар пленных. Самарин улыбнулся, пожал Кузнецову руку и пришпорил коня. За ним рысью пошли его усатые молодцы.
На ночлеге итальянский лейтенант рассказал Кузнецову, что ночью не по правилам на бивак их 3-й конно-егерского полка со всех сторон напали русские гусары и казаки, разгромили три передовых эскадрона, взяли пленных и ушли на другой берег реки. Остальные эскадроны полка придти на помощь не успели…
Самарин погиб через несколько недель, но подвиг его отряда вошел в историю русской армии.
Утром, отправив пленных в штаб корпуса, Кузнецов нагнал свой полк, который со всей 1-й армией направлялся в сторону белорусского города Витебск.
ОДИН ПРОТИВ ДВУХ.
С началом войны 2-я Западная армия генерала от инфантерии князя П.И.Багратиона под натиском превосходящих сил французов была вынуждена отступать. Предписание царя об ударе во фланг центральной группировки наполеоновской армии в силу ее подавляющего численного перевеса было невыполнимым и тогда Багратион попытался через Минск прорваться на соединение с армией Барклая. Но этот город уже был захвачен французами и Багратион повел свою армию через Бобруйск на Могилев, чтобы оттуда выйти к Орше и соединиться с 1-й Западной армией. По пятам его преследовал 8 -й армейский (вестфальский) корпус Вандамма, 5-й армейский корпус Понятовского, 4-й корпус кавалерийского резерва Латур-Мобура под общим командованием вестфальского короля Жерома Бонапарта (брата Наполеона), с севера нависал 1-й корпус Даву в составе двух пехотных дивизий, двух бригад кавалерии и с подчиненным ему 3-м кавкорпусом Груши, а с юга угрожал саксонский корпус Рейнье.
2 июля атаман Платов, неожиданно, также как неделей раньше у Мира, когда он растрепал несколько польских уланских полков, в местечке Романово атаковал авангард короля в составе 7 кавалерийских полков, нанес ему поражение, которое заставило Жерома прекратить преследование Багратиона. Операции против армии Багратиона возглавил Даву, а обиженный этим Жером уехал в столицу своего королевства Кассель.
2-я Западная армия вступила в Бобруйск, пополнила запасы прдовольствия, усилилась шестью пехотными батальонами из гарнизона этой весьма важной крепости. После трех дней передышки она 8 июля двинулась к Могилеву, дошла до Быхова, но впереди у деревни Салтановка ее уже ждал Даву. Справа от дороги, вплоть до Днепра, протекавшего в нескольких верстах восточнее, лежало болото, слева – находился труднопроходимый густой лес, а поперек протекал запруженный в нескольких местах глубокий ручей Салтановка, перебраться через который можно было только по узкой плотине. Плотина была защищена баррикадой. Ручей раздваивался у деревни Фатово на северо-запад от Салтановки и по всему своему течению являлся естественной преградой для русских. На его противоположном берегу уже располагались французские батальоны и были установлены батареи. Казаки атамана Платова накануне разгромили 3-й конно-егерский полк французов, взяли 200 егерей вместе с их командиром в плен и узнали, что Даву на неприступной позиции ждет Багратиона у Салтановки. Багратион думает либо прорваться через Могилев, либо связать боем и задержать Даву, а самому отойти немного назад, затем по мосту в Новом Быхове переправиться через Днепр и окружным путем идти к Смоленску. В прорыв на Могилев было решено двинуть 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н.Н.Раевского.
Багратион, ошибочно полагая, что Даву на этот момент у Салтановки и Фатово имел лишь 6.000 человек (на самом деле там было сосредоточено до 21 тысячи человек с 60 орудиями), рассчитывал на успех Раевского и приказал ему атаковать противника. Командир русского 7-го пехотного корпуса располагал 10 полками в своих 12-й и 26-й пехотных дивизиях, двадцатью эскадронами, тремя казачьми полками и 72 орудиями, всего примерно 16 тысячами человек.
Орловский пехотный полк, годом ранее сформированный в Киеве генералом И.Ф.Паскевичем, до войны был не на лучшем счету в русской армии. Личный состав, собранный из гарнизонных батальонов, не отличался дисциплиной, нередкостью были случаи произвола офицеров. В первые же недели из полка сбежали 70 человек. Выведенный Паскевичем на три месяца в поле, полк преобразился. В гарнизоны были возвращены нерадивые и наиболее жестокие офицеры, вместо них пришла молодежь, было получено пополнение из рекрутов. Ежедневные занятия привели солдат в боеспособное состояние. Побеги прекратились и к началу войны полк по своим качествам не уступал другим частям дивизии.
Егор Шишаков, паренек из новгородской деревни, раскинувшейся на берегу Ильменя, был сдан в рекруты летом 1811 года и через месяц очутился в Орловском пехотном полку. Все его братья обзавелись семьями и жребий послужить Отечеству выпал на его долю. После размеренной крестьянской жизни армейская служба ему показалась сущим адом. Постоянная муштра, зуботычины от свирепого унтера, недоедание, непривычная жара вызывали мысли о побеге. От опрометчивого шага Егора в последний момент спас Семен Калачев, взявший молодого солдата под свою опеку. Калачев четыре года назад за буйство и дерзость был сдан в солдаты и попал в Киевский гарнизонный полк и был уже опытным солдатом. Наблюдая за Шишаковым, Семен вспоминал свои первые месяцы в армии и пожалел парня. Его добрая шутка и вовремя поданный совет помогли Егору придти в себя и он постепенно стал постигать все премудрости армейской службы. Свою роль в этой истории сыграла и» темная», устроенная унтеру, когда тот возвращался в подпитии из одного из кабаков. Кто-то неизвестный недалеко от постоя пересчитал ему зубы, что резко снизило его прыть в обучении молодых рекрутов. Злоумышленника не нашли и посчитали, что унтер пострадал от какого – то ревнивца за свое пристрастие к слабому полу.
В июне 1812 года 26-я я пехотная дивизия в составе 7 -го корпуса генерала Раевского стояла неподалеку от белорусского городка Новый Двор. Впереди по польской границе вдоль Немана располагались казачьи полки. За рекой накапливалось все больше и больше французских войск и уже ни у кого не было сомнений в скором начале войны.
После вторжения Наполеона, русская 2-я Западная армия, а вместе с ней и корпус Раевского 6 дней стояла на месте и лишь 18 июня двинулась на соединение с Барклаем. До последнего момента Багратион надеялся, что ему будет дозволено нанести удар через Остроленку на Варшаву, но, с учетом тех громадных сил, которыми обладал неприятель, это вело к безусловной катастрофе и по настоянию Барклая он начал отступление на восток.
Утром 11 июля авангард корпуса Раевского от деревни Дашковка через лес направился к Салтановке. Стрелки из 6-го и 42-го егерских полков постепенно вытеснили французских вольтижеров из леса, а затем вместе со своими гренадерскими ротами отбросили их за ручей к Салтановке. Русским даже удалось на плечах отступающих прорваться по плотине к самой деревне, но они были встречены картечью и тремя батальонами пехоты. Егеря остановились в низине на пятачке перед деревней, в которой каждый дом был превращен в укрепление с заранее прорубленными бойницами, откуда велся непрерывный огонь. 4 французские пушки из капониров на вершине холма безответно картечью поливали русских. Егеря, теряя много людей, были вынуждены вернуться на другой берег ручья. Были подтянуты орудия, подошел Смоленский пехотный полк, но все попытки сбить неприятеля оканчивались неудачей. Раевский решил направить левее через лес 26-ю дивизию Паскевича, чтобы у Фатово обойти французов и потом отбросить их с дороги на Могилев у Салтановки.
По одному батальону Орловского и Нижегородского пехотных полков шли в авангарде дивизии Паскевича. Дорога заросла и двигаться приходилось в разрозненных порядках по густому лесу. Вместе с пехотой по едва заметной колее продирались 18 орудий. Приказано было идти молча и не создавать лишнего шума.
Шишаков со своей ротой, выдвинутой в стрелки в голову колонны, первым заметил спускавшихся навстречу с лесного пригорка французов. Их он видел впервые и не сразу понял, кто это такие. Егор оглянулся, увидел поручика и показал ему рукой в сторону незнакомцев. Тот отреагировал мгновенно. Он развел руки в стороны, потом указал солдатам на французов шпагой и опустился на колено. Прозвучала команда» Целься!» и, почти сразу, «Пали!». Залп с 30 шагов уложил первую шеренгу французов, но остальные, почти не останавливаясь, ринулись в штыки. По всему лесу затрещали выстрелы, у французов ударили барабаны. В лесу началась свалка. Стрельба почти прекратилась – было несподручно среди деревьев вести огонь. В ход пошли штыки, тесаки, приклады и кулаки. С той и с другой стороны подбегали все новые группы солдат, но русские стали одолевать. Французы, отстреливаясь, попятились назад. Орловцы и нижегородцы выбили их из леса, переправились через ручей и ворвались в Фатово. Неожиданно перед ними стеной поднялись лежащие в хлебах 4 батальона французской пехоты и дали залп в упор.
Вокруг Егора со стонами валились на землю десятки людей, образовалась пустота. Кто-то пытался зарядить ружье и тут же падал пронзенный пулей. Французы быстро строились в шеренги, поднимались знамена, офицеры занимали места на флангах. Взгляд выхватил в их строю мальчишку в колпаке с гордо поднятой головой, выбивающего дробь на своем барабане. Рядом споро, но без суеты строились молодцы в синих мундирах. Во всем виделась их непоколебимая уверенность в себе. Французы произвели еще один залп и быстрым шагом пошли вперед. Остатки русских батальонов не принимая боя начали беспорядочно отступать. У ручья остановились и приняли штыковой бой. Несколько французских гренадер разметали кучку орловцев и вырвали из рук умирающего подпрапорщика батальонное знамя. Отбивать знамя бросился какой-то унтер-офицер со своим отделением, но был убит. В драку ринулся Калачев, заколол одного гренадера и, вырывая знамя у другого, сломал древко. Подскочил полковой адьютант, выхватил полотнище и поволок знамя в тыл.
Потеряв половину состава оба батальона были отброшены французами в фатовский лес, где были усилены Полтавским пехотным полком, вместе с которым в ожесточенном бою сначала остановили противника, а затем прогнали в Фатово. Замысел Даву о скрытном выдвижении двух батальонов 85-го, набранного из жителей солнечной Италии, и 108-го линейных полков и их последующем ударе по левому флангу Раевского не осуществился из-за неожиданного столкновения в лесу с частями дивизии Паскевича, получившего приказ об аналогичном маневре против правого фланга французов. И та, и другая стороны вернулись в исходное положение, установили батареи и принялись истреблять друг друга артиллерией.
Раевский, посчитав, что у Паскевича дела идут успешно, решил еще раз атаковать французов в Салтановке. Генерал, спешившись, встал во главе Смоленского пехотного полка, знаменитого еще по итальянскому походу Суворова, и повел его в бой. Смоленцы по узкой плотине под сильнейшим огнем перешли разлившийся и глубокий ручей, ворвались в деревню и выбили из нее французов. Но этот порыв был совершен из последних сил. Полк пол дня простоял под огнем, понес большие потери, которые удвоились во время этой атаки и не смог удержаться в Салтановке.
На левом фланге на равнине за Фатово хорошо просматривались густые колонны французской пехоты 61-го и 108-го линейных полков, два батальона из 85-го полка, а за ними ряды всадников 5-й дивизии тяжелой кавалерии генерала Валанса и трех конно-егерских полков. Паскевич почему-то посчитал, что ему противостоят 20.000 французов и доложил об этом Раевскому. Командиру корпуса стало понятно, что дальнейшие его атаки бесперспективны. Наступление на Могилев закончилось неудачей. В этот момент от Багратиона поступил приказ об отходе 7-го корпуса к Новому Быхову, где 2-я Западная армия уже начала переправу через Днепр.
Французы попытались преследовать обе дивизии корпуса, пьемонтцы 111-линейного полка лихо двинулись за русскими, но были быстро отброшены в контратаках. Вечером сражение прекратилось, Даву от преследования отказался, стал укреплять Могилев будучи уверенным, что Багратион вновь будет атаковать. В городе уже собрались две пехотные дивизии из 1-го корпуса, кирасирская дивизия Валанса, несколько полков легкой кавалерии, прибыли дивизия Клапереда, отряд Пажоля и теперь у Даву в распоряжении было уже свыше 30 тысяч солдат. Кроме этого, маршала были готовы поддержать сторожившие Багратиона неподалеку две дивизии тяжелой и одна дивизия легкой кавалерии, вестфальский и польский армейские корпуса. Всего против 2-й Западной армии сосредотачивалось до 60 тысяч солдат. Но своей основной задачей на данный момент Даву считал недопущение прорыва Багратиона на соединение с Барклаем через Могилев и он ее уже выполнил.
Раевский беспрепятственно соединился с Багратионом. 14 июля 2-я Западная армия в полном составе переправилась в Новом Быхове через Днепр и направилась вдоль реки Сож к Мстиславлю и далее на Смоленск.
ОСТРОВНО.
Главные силы армии Барклая располагались в Витебске и поджидали Багратиона, который, пытаясь прорваться на север и соединиться с 1-й Западной армией, вел трудные, изматывающие непрерывные бои с войсками маршала Даву. Чтобы спокойно дождаться Багратиона, требовалось задержать основную часть армии Наполеона и ее авангард в составе кавалерии Мюрата и корпуса Евгения Богарнэ. Было необходимо задержать французов как можно дольше, а для этого частью войск нанести по ним встречный удар. В ночь с 12 на 13 июля навстречу неприятелю был направлен отряд под командованием генерала А.И.Остермана-Толстого. В него входили 4-й пехотный корпус, 2 гусарских полка, бригада драгун и конно-артиллерийская рота. Этих войск было явно недостаточно, но Остерман решил использовать благоприятный для обороны рельеф местности. Дорога, по которой двигался французский авангард, втягивалась в обширный лес и с обеих сторон была стеснена густым кустарником, деревьям и болотами. Обойти русских с их правого фланга не позволяла также река Западная Двина. Надо было встать на дороге перед местечком Островно и как можно дольше сдерживать атаки, перемалывая скованные для маневра вражеские войска.
Рано утром 13 июля 1-й сводно-гренадерский батальон 11 пехотной дивизии, в который был откомандирован с ротой гренадеров 1-го егерского полка капитан Данилов, шел в голове отряда Остермана (в гренадерской роте еще в первых числах июня Данилов заменил ее командира, выбывшего по болезни. Сам же егерский полк, состоял в начале войны в отряде генерала И.С.Дорохова, который, действуя на границе, по упущению командования отстал от своего корпуса, едва не погиб, попал в окружение, еле выбрался из него, в итоге 25 июня примкнул к армии Багратиона и воевал в ее составе вместе с казаками Платова вплоть до соединения с войсками Барклая в Смоленске. Тогда же и Данилов вернулся в свою роту егерей). Два дня назад батальон двигался по этой же дороге в Витебск, а теперь возвращался назад. На выходе из леса вперед проехали сначала лейб-гусары, а за ними нежинские драгуны. Они шли в походном порядке и, как заметил Данилов, не выслали вперед головного дозора. Данилов окликнул какого-то драгунского поручика и сказал, что впереди никого из русских нет. Драгун кивнул головой и ничего не успел ответить, так как впереди затрещали частые выстрелы и драгунский полк пошел вперед. За ним пронеслись в упряжках несколько орудий конной артиллерии. Дело разгоралось нешуточное.
Рота Данилова прошла еще немного вперед и рассыпалась по кустам слева от дороги. Впереди просматривалось поле, еще дальше три десятка домов – Островно. Перед ним в туче пыли шел кавалерийский бой и было видно, как в него вступали выезжавшие из Островно все новые и новые французские эскадроны.
Гренадеры проворно заряжали ружья, искали удобные места для стрельбы и старались укрыться так, чтобы их не было видно с поля и дороги (сказывались уроки егерского капитана). Их зеленые мундиры хорошо сливались с густой листвой. Сзади подходили пехотные части и одна за другой строились в каре. Перед ними занимали позиции орудия. Широкая дорога и опушка леса сразу заполнилась войсками. Впереди орудий рассыпались егеря, а сводно-гренадерский батальон занял левый фланг..
Через час показались отступающие лейб-гусары и драгуны. Их ряды заметно поредели и с ними уже не было пушек. Все 6 орудий стали первыми артиллерийскими трофеями французов в начавшейся компании. Едва пехота успела пропустить их через свои порядки, как показалась французская кавалерия. На нее бросился Сумской гусарский полк. Гусары плотным строем стремительно врубились в середину французов. Некоторое время слышались только звон холодного оружия, крики людей и ржание лошадей. Выстрелов не было. Сначала отдельные всадники и группы французов стали выходить из боя, а затем и все остальные ринулись назад к Островно. Гусары, разозленные разгромом двух гвардейских эскадронов, учиненным утром французами, яростно преследовали их до самых крестьянских дворов. Польские уланы попытались спасти положение, но они были сметены потоком отступающих.
У Островно накапливалось все больше и больше французской кавалерии, подошла многочисленная артиллерия. К войскам прибыл сам Мюрат. Явно ожидался подход новых войск. Мимо батальона Данилова в атаку неожиданно пошел Ингерманландский драгунский полк, но в его фланг ударили польские уланы и 8-й гусарский полк, смяли и окружили его. Половине драгун удалось вырваться, но за ними устремилась еще одна бригада французов. Вал кавалерии приближался к русской пехоте. По команде Данилова, не дождавшегося приказа батальонного начальника, который получил ранение, гренадеры открыли огонь, последовали залпы артиллерии и остальной пехоты Четвертого корпуса. Огонь был настолько эффективный, что уже через несколько минут кавалерийская бригада понесла тяжелые потери и повернула назад.
Вперед французы выдвинули шассеров 8-го легкого полка из дивизии Дельзона. Они бегом заняли позиции напротив русских и открыли частый огонь. Постоянно перемещаясь группами за мелким кустарником прицельной пальбой они наносили ощутимые потери русской пехоте. Гренадеры Данилова открыли ответный огонь и отогнали французов. Но те, немного отступив, сосредоточили уже весь огонь на мешавшем им сводном батальоне. Возобновила стрельбу и неприятельская артиллерия. Вокруг от летящего металла трещали стволы и ветви деревьев, осыпалась листва. Стало жарко. Необходимо было отбросить дальше французских стрелков. И в атаку пошли несколько батальонов из 11-й пехотной дивизии генерала Н.Н.Бахметева 1-го. Французы, отстреливаясь и не вступая в рукопашный бой, стали отходить. На помощь к ним выдвинулась кавалерия и русские вернулись на прежние позиции. На правом фланге отряда Остермана также шел ожесточенный бой. Атака русской пехоты была отбита кавалерией. Французы, в свою очередь, скрытно, по лесу совершив обход, атаковали русских, но были отбиты штыками. Атаки и контратаки следовали одна за другой. Русские держались, но несли большие потери от более многочисленной артиллерии противника. Когда Остерману доложили о том, что выдвинутая на открытое место его пехота несет напрасные потери и спросили: что делать?, он, нюхая табак, внешне невозмутимо произнес: " Стоять и умирать " (прозвучало красиво, но, может быть, можно было поискать другие решения?). К кавалерии Мюрата подошли остальные полки пехотной дивизии Дельзона и превосходство французов стало двойным.

