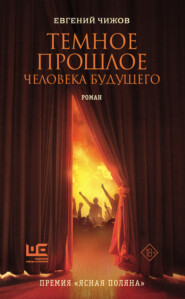По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Самоубийцы и другие шутники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Инна пожала плечами.
– Извини.
– Да нет же! – Сеня заговорил быстрее, спеша засыпать словами разверзающийся провал очевидности. – У меня же нет никого ближе тебя, а у тебя ближе меня! Ты просто так привыкла ко мне, что сама не замечаешь… Ты думаешь, что любовь – это что-то такое особенное, что-то необыкновенное, а это…
– Извини…
Безупречно продуманный план рушился на глазах – и из-за чего?! Из-за такой банальности! Сеня налил стакан до краев и одним махом выпил.
– Нет, ты просто сама еще не осознала. Тебе нужно подумать. Ты подумаешь и поймешь.
– Да не нужно мне думать. О чем тут думать? Извини…
Она смотрела на него прямо и ясно, как умела смотреть, был убежден Сеня, она одна, обладательница лучшего рисунка и самой легкой линии на курсе, да что там на курсе – во всем институте, во всем мире! И этой своей легкой линией она, не моргнув глазом, ставила на нем крест. Это было невыносимо.
– Не о чем мне думать, Сеня, – повторила Инна. Она чувствовала, что ему больно, и хотела быстрее поставить точку и закончить с этим. Но, назвав по имени, она ненароком натолкнула его на верную мысль.
– Ты не принимаешь меня всерьез, вот в чем все дело! Ты мне не веришь! Ты думаешь, я так… Думаешь, я просто так…
Он хотел налить вина в стакан, но передумал и принялся хлестать из горла.
– Прекрати пить! Что мне с тобой делать, если ты напьешься?
Он не услышал ее слов, а может, услышал, но назло ей вылакал бутылку до дна. Красное вино стекало по подбородку на синий Сенин свитер, расплываясь на нем растущим черным пятном.
– А я не просто так! Ты увидишь! Ты убедишься! Раз ты так… Раз ты меня не любишь, зачем тогда всё?
Нелепой походкой Сеня подошел на почти прямых ногах к кровати и, продолжая бормотать, что он не просто так, стал рыться на висящей над ней полке, где стояли лекарства. Они посыпались вниз, покатились по полу, наконец Сеня нашел, что искал, и с нескрываемым торжеством показал Инне большой пузырек феназепама.
– Раз ты так, то мне и жить незачем. Выпью и всё. И никаких проблем. Элементарно. Думаешь, опять шучу?
Инна не ответила. Угроза самоубийством была для нее запрещенным приемом, нарушающим правила игры так грубо, что она сразу из игры выбывала, и все дальнейшее уже не имело к ней отношения. Человек, шантажирующий ее самоубийством, был для нее как сумасшедший, с ним не могло быть общего языка. Все, что имело для Инны значение, принадлежало той жизни, которую этот человек отталкивал, одним этим намерением становясь вне ее, так что и говорить с ним было не о чем.
Сеня подошел к раковине, налил полный стакан, возвращаясь к столу, расплескал половину, улыбнулся пьяной заискивающей улыбкой. «Сейчас подмигнет», – успела подумать Инна за секунду до того, как он подмигнул.
– Ка-а-анечно, шучу, – язык Сени уже заплетался. – Это моя последняя шутка. Не передумаешь?
– Перестань валять дурака, – ответила Инна чужими бесцветными словами. Ей было их стыдно, но своих слов в этой ситуации у нее быть не могло.
– Тогда смотри. Один раз показываю.
Запрокинул голову, высыпал в рот содержимое пузырька, запил, поперхнулся, несколько таблеток вывалилось изо рта, но остальные, давясь, с трудом проглотил. Инна наблюдала за Сениными действиями так, точно это было кино. Через несколько минут улыбка сползла с его лица, и она почувствовала, что в упор глядящие Сенины глаза ее не видят. Он начал крениться со стула вбок, все ниже и ниже, но не падал. А когда все-таки стал падать, встряхнулся и выпрямился.
– Пойду прилягу, – сказал Сеня так, будто всего лишь устал и хочет отдохнуть. Поднялся, сделал несколько нетвердых шагов, но не к кровати, а зачем-то к двери. Открыв ее, шагнул в пролет, но промахнулся и, врезавшись лицом в косяк, рухнул на пол.
– Идиот!!! – истошно закричала Инна.
Но он ее уже не слышал.
Ну и что теперь делать? Ведь знала же, знала, что ничем хорошим эта поездка не кончится! А все равно поперлась в эту глушь. Во всем Вадим виноват, если бы он ее не обманул, никогда бы не поехала! Инне остро захотелось позвонить ему и заставить под предлогом случившегося бросить семью и приехать. Но это было глупо. Какое ему дело до Сени? Он только плечами пожмет: сам виноват, дуралей, хотел помереть, пусть помирает. Звонить надо было не Вадиму, а в скорую. Она достала из сумки мобильник, включила и убедилась, что он не подает признаков жизни: или сломался, или здесь нет связи. Ее это не удивило – даже наоборот, мелькнула мысль, что так и должно было случиться: с Сеней всегда так. Придется идти к соседям, просить их вызвать врача. Неизвестно еще, где эти соседи, в ближайших домах, видных ей из окна, было темно, там явно никого не было. Вот ведь влипла! Обернулась на Сеню. Тот лежал, раскинувшись на полу в какой-то преувеличенно отчаянной позе, разбросав руки и ноги, как в прыжке. С расшибленного о косяк лба стекала, раздваиваясь вокруг глаза, струйка крови. Инна наклонилась, достала платок, стерла кровь и при этом впервые заметила, какой Сеня, в сущности, красивый. Они были так давно знакомы, что она не обращала на его внешность никакого внимания, привыкла к ней, а тут вдруг увидела свежими глазами и осознала внезапно, что он ведь и правда может умереть, чертов идиот, вот будет обидно! Наклонилась ниже, приложила ухо к груди, прислушалась – вроде дышит, но как-то слабо, нужно торопиться.
На улице была сырая мартовская темнота, такая безлюдная и чужая, что Инне сделалось жутко. Она миновала несколько наглухо запертых домов с черными окнами, и улица вывела ее на край поля, за которым виднелась придавленная тучами тусклая полоса, оставшаяся от заката. На ее фоне дрожали на ветру в бескрайней темной пустоте голые кусты и редкие далекие деревья. Вид этого поля, неизвестно зачем раскинувшегося насколько хватало глаз, заставил ее почувствовать такое одиночество, какого она не испытывала никогда в жизни. У Вадима была семья, у Сени была она, и только у нее никого не было! И даже Сеня, всегда, по крайней мере, бывший рядом, на которого она всегда могла положиться, теперь лежал на полу чужого дома и собирался умирать!
Наконец попался дом с голубым мерцающим светом в окне, очевидно, там смотрели телевизор. Не найдя в темноте звонка, Инна долго стучала во дверь, но никто не отпирал, видимо, телевизор работал громко и ее не слышали. Пришлось обойти дом и постучаться в окно. Занавеска отодвинулась, за стеклом возникло неясное лицо, Инна не поняла даже, мужское или женское, но через минуту ей открыл заспанный старик в кальсонах. Пока Инна рассказывала ему, что случилось, он глядел на нее, морщась и удивленно моргая. Похоже, он спал под включенный на полную громкость телевизор и спросонья услышанный Иннин рассказ не доходил до него. А может, он просто ее не слышал, потому что за спиной у него раздавались оглушительные телевизионные голоса, Инне было их не перекричать. Все-таки он пригласил ее внутрь, а там ей навстречу вышла пожилая женщина с более осмысленным лицом, она даже догадалась убавить звук. Обрадованная этим, Инна вновь начала рассказывать о наглотавшемся феназепама друге, замечая в чертах женщины признаки понимания, удивления и даже сочувствия, но когда дело дошло до просьбы позвонить в скорую, потому что у Инны сломался мобильный, та сокрушенно вздохнула:
– Что ты, отсюда ты никуда не дозвонишься, эти игрушки, – она кивнула на мобильник, – никогда у нас не работали. Раньше был один телефон на всю деревню, на фонаре висел, но уже года два как сломался. Мы тут сами себе и скорая, и больница, и похоронная контора. Сами себя лечим, сами себя хороним. Идем, я тебя к Серафиме сведу, она скажет, что делать. Серафима Никитична знает.
Женщина быстро оделась, накинула платок и шагнула впереди Инны в ночь.
– Эта Серафима Никитична – она по каким болезням врач? – спросила Инна.
– По всем болезням.
– Как это? Разве такие врачи бывают?
– У нас бывают. У вас в городах, может, и нет, а у нас пожалуйста.
– Знахарка, что ли? – догадалась Инна.
– Можно и так сказать. Только мы нашей Серафиме больше, чем вашим городским врачам, доверяем. У нее и мать здесь лечила, и матери мать. Мы ее, считай, всю жизнь знаем. Что можно сделать, она сделает. А если ничего не поделаешь, то и скорая не поможет.
Серафима Никитична жила в дальнем конце деревни, минут через пятнадцать подошли к ее двухэтажному каменному дому со сплошным забором почти в человеческий рост – похоже, знахарское ремесло было прибыльным. Одно из окон переливалось отсветами с экрана. Здесь тоже смотрели телевизор, но стучать в стекло не пришлось, на воротах был звонок. Открывшая им еще не старая женщина была высокой, худой, со впалыми щеками сухого, бесцветного и, скорее, неприятного лица. Инна подумала, что она больше похожа на обычного врача или даже заведующую отделением больницы, чем на деревенскую знахарку. Правда, Инна не знала, как должна выглядеть знахарка, чтобы быть похожей на знахарку. Женщина, приведшая Инну, пересказала Серафиме Никитичне то, что от нее услышала, та больше ни о чем расспрашивать не стала.
На обратном пути, когда шли мимо поля, Инна заметила отсвет закатной полосы на лице Серафимы Никитичны. Подумала, что если бы взялась писать ее портрет, то непременно на фоне этого ночного поля: они подходили друг другу, в жестких чертах лица знахарки угадывались такие же пустота и холод. Портрет, наверное, вышел бы жутковатым, но сейчас ей было спокойней рядом с Серафимой Никитичной, она была благодарна, что та не задавала лишних вопросов, ни в чем ее не упрекала. Сама Инна уже винила себя в том, что даже не попыталась отнять у Сени снотворное, позволила ему выпить его у нее на глазах. Надо было хотя бы попробовать, может, и удалось бы. Но вся ситуация, все Сенины действия были настолько нелепы, что она до последней секунды не могла поверить, что это серьезно. Входить в дом Инне было страшно, вдруг он там уже мертвый, и она пропустила вперед обеих женщин.
Сеня лежал в той же позе, в какой Инна его оставила, и был, несомненно, жив – об этом свидетельствовал вырывавшийся у него из груди негромкий прерывистый храп. Втроем они подняли его и положили на кровать, Серафима Никитична села рядом, пощупала у него пульс, отвернула веко, Инна увидела тускло отсвечивающий белок закатившегося глаза. Потом знахарка резко потянула Сеню на себя, чтобы посадить и снять с него свитер, вторая женщина стала ей помогать, поддерживая заваливающееся тело. Сеня был в их руках, как огромная беспомощная кукла, голова свесилась набок, из открытого рта вытекла темная жидкость, похожая на кровь, но, скорее всего, это было вино. Нужно было его вытереть, но Инна не могла заставить себя протянуть руку: пока Сеня был во власти двух женщин, она не решалась вмешиваться, могла только оторопело наблюдать. Сняв свитер, знахарка послушала сердце, потом долго щупала и давила Сенин живот. Инна пыталась понять по ее сосредоточенному лицу, есть ли у Сени шанс проснуться, но оно ничего не выражало – ни подсказки, ни даже намека. После очередного нажатия на живот Сеня издал странный звук, будто рыгнул, а потом, не открывая глаз, невнятно забормотал. Инне удалось расслышать всего несколько слов, что-то вроде: «Сейчас, сейчас… иду… где дверь?» Серафима Никитична была, похоже, этим удовлетворена, потому что оставила Сеню и молча поглядела на Инну.
– Ну что, – поспешно спросила та. – Что с ним будет?
– Не знаю, – знахарка с минуту пристально вглядывалась в Инну, будто именно от нее зависело, что будет. – Парень молодой, может, отлежится. А может, приберет его Господь, наперед тут не угадаешь. Ты с ним будь, держи его, сможешь удержать, все у вас хорошо будет. Он сейчас вдоль смерти идет, куда свернет, так и выйдет. Может, пройдет мимо, может, нет, главное, ты его не отпускай, поняла? А я пойду, травку заварю, будешь давать ему, как скажу.
Инна кивнула, потом все-таки решилась спросить:
– Как это не отпускать?
– Да как хочешь. Хочешь, за руку держи, хочешь еще как-нибудь, главное, чтобы он знал, что ты с ним, думаешь о нем, ждешь, чтоб проснулся.
– Откуда ему знать, что я о нем думаю, он же спит?
– Он сейчас все знает, – уверенно ответила знахарка. – Пойдем мы. Если что, где я живу, помнишь.
Женщины были уже на пороге, когда у Инны чуть не вырвалось: «Не уходите! Как же я здесь одна?!» Но промолчала, и они ушли.
Тишина дома накрыла ее. Сеня прекратил храпеть, но тишина была такой, что в ней было слышно его сиплое дыхание. Что-то щелкнуло в печке, там догорал разведенный Сеней огонь. Инна открыла печную дверцу и подкинула еще пару поленьев, оставшихся от принесенной Сеней охапки. С огнем ей было хоть немного менее одиноко. Все-таки кто-то почти живой рядом. Раскинувшийся на кровати Сеня тоже был рядом, но огонь был определенно живее. И он был весь здесь – в доме, в печи, – тогда как Сеня был здесь, но в то же время совершенно непонятно где: шел вдоль смерти, как сказала Серафима Никитична. Что это значит? Как это – идти вдоль смерти? Инна попыталась представить пространство, где находился сейчас Сеня, разделительную полосу между жизнью и смертью, по которой он брел, но ее воображение, обычно яркое и сильное, ничего не смогло ей подсказать. Бесполезно было вглядываться в Сенино лицо, по нему было не угадать, что проходит перед его глазами, оно было неподвижно, черты чуть заметно обострились и словно очистились: когда исчезла всегдашняя Сенина ухмылка, сошли его взвинченность и нервность, возник точно другой человек, которого Инна прежде не замечала, глубокий и серьезный, полный загадочного внутреннего напряжения. Только его губы иногда шевелились, с них срывались звуки, складывавшиеся в слова, смысла и связи которых Инне уловить не удавалось. Чтобы лучше расслышать, она наклонилась к Сене и тут заметила дрожащий багровый отсвет в черном окне. Еще раньше, чем догадалась, что это отражение печного пламени за оставшейся открытой дверцей, Инна поняла, что именно так – как крошечный мерцающий огонь в бескрайней, без единого проблеска ночи – должен чувствовать себя Сеня, обреченный в своих странствиях между жизнью и смертью на одиночество, которое не с чем сравнить на Земле, потому что живых много, мертвых бесконечно больше, и только блуждающих между теми и другими единицы, и шансов встретить друг друга у них нет. Ее собственное одиночество в сравнении с испытываемым сейчас Сеней было просто детской игрой. О нем и говорить всерьез не стоило, если бы оно не было единственным, что было у них сейчас общего, единственным, что их сближало. Инна взялиа Сенину руку в свои, его рука никак не реагировала ни на прикосновение, ни на пожатие, и безвольно лежала между ее ладонями, как прохладная вещь. Зато постепенно ей стали яснее произносимые Сеней звуки, возможно, она просто привыкла к его бормотанию и начала различать:
– Куда? Куда? Сейчас… Я сам… Я нет… Иду… Я не боюсь… Я знаю… Я смогу…
Иногда отрывочные слова и фразы меняли смысл на противоположный: «я смогу» на испуганное «не смогу», «я не боюсь» на паническое «боюсь!». Дальше слова делались неразборчивы, исчезали в невнятной абракадабре или надолго совсем смолкали, будто он входил в глубокие области, откуда голос не мог прорваться наружу. Иногда Сенины губы продолжали двигаться без звука, добавляя тишины к тишине дома и ночи за его окнами, тогда Инне приходилось сглатывать, чтобы не заложило уши. Сенино лицо не было абсолютно бездвижным, время от времени между бровями возникала вертикальная морщина, придававшая ему выражение тревоги, испуга или боли. Похоже, мало приятного было в тех местах, где он находился. Когда Сенины пальцы еле заметно зашевелились, будто он пытался сжать их, чтобы удержать Иннину руку, но сил на это у него не было, она отчетливо осознала, что он подошел совсем близко к смерти, она совсем рядом, причем не только в тех внутренних пространствах, где Сеня двигался вдоль ее пределов, но и здесь, в доме. Инне не было по-настоящему страшно, ей самой смерть ничем не угрожала, и все равно это было невыносимо тревожное присутствие, поскольку смерть собиралась забрать Сеню, и она никак не могла этому помешать. Инна стиснула Сенину руку, но это было так очевидно бесполезно, что она едва не заплакала. Закусила губу, чтобы сдержаться, и, быстро переводя взгляд из угла в угол, осматривала комнату, пытаясь угадать, где притаилась смерть. Дверь громоздкого буфета была приоткрыта, она могла быть внутри, могла скрываться за любой из картин на стенах, особенно за двумя, нет, тремя, висящими чуть криво, – эта кривизна была подозрительна, как подозрительны были старые пальто и куртки на вешалке, едва заметно колышущиеся на сквозняке занавески, полотенце над раковиной (потому что было, наоборот, слишком неподвижно, и в этом был явный обман), пара как-то косо стоящих сапог в углу комнаты, неуклюжее кресло с подломившейся ножкой – все, на чем Инна сосредотачивала взгляд, обнаруживало ущербность, которая могла быть признаком присутствия смерти. Она понимала нелепость этого своего всматривания – что она сделает, если поймет, где смерть? Швырнет в нее ботинком? Пустой бутылкой из-под выпитого Сеней вина? Но не могла остановиться. И чем дольше она всматривалась, тем обманчивее и ненадежнее делалось все, что ее окружало, насквозь пронизанное смертью, тем сильнее росла тревога.
– Извини.
– Да нет же! – Сеня заговорил быстрее, спеша засыпать словами разверзающийся провал очевидности. – У меня же нет никого ближе тебя, а у тебя ближе меня! Ты просто так привыкла ко мне, что сама не замечаешь… Ты думаешь, что любовь – это что-то такое особенное, что-то необыкновенное, а это…
– Извини…
Безупречно продуманный план рушился на глазах – и из-за чего?! Из-за такой банальности! Сеня налил стакан до краев и одним махом выпил.
– Нет, ты просто сама еще не осознала. Тебе нужно подумать. Ты подумаешь и поймешь.
– Да не нужно мне думать. О чем тут думать? Извини…
Она смотрела на него прямо и ясно, как умела смотреть, был убежден Сеня, она одна, обладательница лучшего рисунка и самой легкой линии на курсе, да что там на курсе – во всем институте, во всем мире! И этой своей легкой линией она, не моргнув глазом, ставила на нем крест. Это было невыносимо.
– Не о чем мне думать, Сеня, – повторила Инна. Она чувствовала, что ему больно, и хотела быстрее поставить точку и закончить с этим. Но, назвав по имени, она ненароком натолкнула его на верную мысль.
– Ты не принимаешь меня всерьез, вот в чем все дело! Ты мне не веришь! Ты думаешь, я так… Думаешь, я просто так…
Он хотел налить вина в стакан, но передумал и принялся хлестать из горла.
– Прекрати пить! Что мне с тобой делать, если ты напьешься?
Он не услышал ее слов, а может, услышал, но назло ей вылакал бутылку до дна. Красное вино стекало по подбородку на синий Сенин свитер, расплываясь на нем растущим черным пятном.
– А я не просто так! Ты увидишь! Ты убедишься! Раз ты так… Раз ты меня не любишь, зачем тогда всё?
Нелепой походкой Сеня подошел на почти прямых ногах к кровати и, продолжая бормотать, что он не просто так, стал рыться на висящей над ней полке, где стояли лекарства. Они посыпались вниз, покатились по полу, наконец Сеня нашел, что искал, и с нескрываемым торжеством показал Инне большой пузырек феназепама.
– Раз ты так, то мне и жить незачем. Выпью и всё. И никаких проблем. Элементарно. Думаешь, опять шучу?
Инна не ответила. Угроза самоубийством была для нее запрещенным приемом, нарушающим правила игры так грубо, что она сразу из игры выбывала, и все дальнейшее уже не имело к ней отношения. Человек, шантажирующий ее самоубийством, был для нее как сумасшедший, с ним не могло быть общего языка. Все, что имело для Инны значение, принадлежало той жизни, которую этот человек отталкивал, одним этим намерением становясь вне ее, так что и говорить с ним было не о чем.
Сеня подошел к раковине, налил полный стакан, возвращаясь к столу, расплескал половину, улыбнулся пьяной заискивающей улыбкой. «Сейчас подмигнет», – успела подумать Инна за секунду до того, как он подмигнул.
– Ка-а-анечно, шучу, – язык Сени уже заплетался. – Это моя последняя шутка. Не передумаешь?
– Перестань валять дурака, – ответила Инна чужими бесцветными словами. Ей было их стыдно, но своих слов в этой ситуации у нее быть не могло.
– Тогда смотри. Один раз показываю.
Запрокинул голову, высыпал в рот содержимое пузырька, запил, поперхнулся, несколько таблеток вывалилось изо рта, но остальные, давясь, с трудом проглотил. Инна наблюдала за Сениными действиями так, точно это было кино. Через несколько минут улыбка сползла с его лица, и она почувствовала, что в упор глядящие Сенины глаза ее не видят. Он начал крениться со стула вбок, все ниже и ниже, но не падал. А когда все-таки стал падать, встряхнулся и выпрямился.
– Пойду прилягу, – сказал Сеня так, будто всего лишь устал и хочет отдохнуть. Поднялся, сделал несколько нетвердых шагов, но не к кровати, а зачем-то к двери. Открыв ее, шагнул в пролет, но промахнулся и, врезавшись лицом в косяк, рухнул на пол.
– Идиот!!! – истошно закричала Инна.
Но он ее уже не слышал.
Ну и что теперь делать? Ведь знала же, знала, что ничем хорошим эта поездка не кончится! А все равно поперлась в эту глушь. Во всем Вадим виноват, если бы он ее не обманул, никогда бы не поехала! Инне остро захотелось позвонить ему и заставить под предлогом случившегося бросить семью и приехать. Но это было глупо. Какое ему дело до Сени? Он только плечами пожмет: сам виноват, дуралей, хотел помереть, пусть помирает. Звонить надо было не Вадиму, а в скорую. Она достала из сумки мобильник, включила и убедилась, что он не подает признаков жизни: или сломался, или здесь нет связи. Ее это не удивило – даже наоборот, мелькнула мысль, что так и должно было случиться: с Сеней всегда так. Придется идти к соседям, просить их вызвать врача. Неизвестно еще, где эти соседи, в ближайших домах, видных ей из окна, было темно, там явно никого не было. Вот ведь влипла! Обернулась на Сеню. Тот лежал, раскинувшись на полу в какой-то преувеличенно отчаянной позе, разбросав руки и ноги, как в прыжке. С расшибленного о косяк лба стекала, раздваиваясь вокруг глаза, струйка крови. Инна наклонилась, достала платок, стерла кровь и при этом впервые заметила, какой Сеня, в сущности, красивый. Они были так давно знакомы, что она не обращала на его внешность никакого внимания, привыкла к ней, а тут вдруг увидела свежими глазами и осознала внезапно, что он ведь и правда может умереть, чертов идиот, вот будет обидно! Наклонилась ниже, приложила ухо к груди, прислушалась – вроде дышит, но как-то слабо, нужно торопиться.
На улице была сырая мартовская темнота, такая безлюдная и чужая, что Инне сделалось жутко. Она миновала несколько наглухо запертых домов с черными окнами, и улица вывела ее на край поля, за которым виднелась придавленная тучами тусклая полоса, оставшаяся от заката. На ее фоне дрожали на ветру в бескрайней темной пустоте голые кусты и редкие далекие деревья. Вид этого поля, неизвестно зачем раскинувшегося насколько хватало глаз, заставил ее почувствовать такое одиночество, какого она не испытывала никогда в жизни. У Вадима была семья, у Сени была она, и только у нее никого не было! И даже Сеня, всегда, по крайней мере, бывший рядом, на которого она всегда могла положиться, теперь лежал на полу чужого дома и собирался умирать!
Наконец попался дом с голубым мерцающим светом в окне, очевидно, там смотрели телевизор. Не найдя в темноте звонка, Инна долго стучала во дверь, но никто не отпирал, видимо, телевизор работал громко и ее не слышали. Пришлось обойти дом и постучаться в окно. Занавеска отодвинулась, за стеклом возникло неясное лицо, Инна не поняла даже, мужское или женское, но через минуту ей открыл заспанный старик в кальсонах. Пока Инна рассказывала ему, что случилось, он глядел на нее, морщась и удивленно моргая. Похоже, он спал под включенный на полную громкость телевизор и спросонья услышанный Иннин рассказ не доходил до него. А может, он просто ее не слышал, потому что за спиной у него раздавались оглушительные телевизионные голоса, Инне было их не перекричать. Все-таки он пригласил ее внутрь, а там ей навстречу вышла пожилая женщина с более осмысленным лицом, она даже догадалась убавить звук. Обрадованная этим, Инна вновь начала рассказывать о наглотавшемся феназепама друге, замечая в чертах женщины признаки понимания, удивления и даже сочувствия, но когда дело дошло до просьбы позвонить в скорую, потому что у Инны сломался мобильный, та сокрушенно вздохнула:
– Что ты, отсюда ты никуда не дозвонишься, эти игрушки, – она кивнула на мобильник, – никогда у нас не работали. Раньше был один телефон на всю деревню, на фонаре висел, но уже года два как сломался. Мы тут сами себе и скорая, и больница, и похоронная контора. Сами себя лечим, сами себя хороним. Идем, я тебя к Серафиме сведу, она скажет, что делать. Серафима Никитична знает.
Женщина быстро оделась, накинула платок и шагнула впереди Инны в ночь.
– Эта Серафима Никитична – она по каким болезням врач? – спросила Инна.
– По всем болезням.
– Как это? Разве такие врачи бывают?
– У нас бывают. У вас в городах, может, и нет, а у нас пожалуйста.
– Знахарка, что ли? – догадалась Инна.
– Можно и так сказать. Только мы нашей Серафиме больше, чем вашим городским врачам, доверяем. У нее и мать здесь лечила, и матери мать. Мы ее, считай, всю жизнь знаем. Что можно сделать, она сделает. А если ничего не поделаешь, то и скорая не поможет.
Серафима Никитична жила в дальнем конце деревни, минут через пятнадцать подошли к ее двухэтажному каменному дому со сплошным забором почти в человеческий рост – похоже, знахарское ремесло было прибыльным. Одно из окон переливалось отсветами с экрана. Здесь тоже смотрели телевизор, но стучать в стекло не пришлось, на воротах был звонок. Открывшая им еще не старая женщина была высокой, худой, со впалыми щеками сухого, бесцветного и, скорее, неприятного лица. Инна подумала, что она больше похожа на обычного врача или даже заведующую отделением больницы, чем на деревенскую знахарку. Правда, Инна не знала, как должна выглядеть знахарка, чтобы быть похожей на знахарку. Женщина, приведшая Инну, пересказала Серафиме Никитичне то, что от нее услышала, та больше ни о чем расспрашивать не стала.
На обратном пути, когда шли мимо поля, Инна заметила отсвет закатной полосы на лице Серафимы Никитичны. Подумала, что если бы взялась писать ее портрет, то непременно на фоне этого ночного поля: они подходили друг другу, в жестких чертах лица знахарки угадывались такие же пустота и холод. Портрет, наверное, вышел бы жутковатым, но сейчас ей было спокойней рядом с Серафимой Никитичной, она была благодарна, что та не задавала лишних вопросов, ни в чем ее не упрекала. Сама Инна уже винила себя в том, что даже не попыталась отнять у Сени снотворное, позволила ему выпить его у нее на глазах. Надо было хотя бы попробовать, может, и удалось бы. Но вся ситуация, все Сенины действия были настолько нелепы, что она до последней секунды не могла поверить, что это серьезно. Входить в дом Инне было страшно, вдруг он там уже мертвый, и она пропустила вперед обеих женщин.
Сеня лежал в той же позе, в какой Инна его оставила, и был, несомненно, жив – об этом свидетельствовал вырывавшийся у него из груди негромкий прерывистый храп. Втроем они подняли его и положили на кровать, Серафима Никитична села рядом, пощупала у него пульс, отвернула веко, Инна увидела тускло отсвечивающий белок закатившегося глаза. Потом знахарка резко потянула Сеню на себя, чтобы посадить и снять с него свитер, вторая женщина стала ей помогать, поддерживая заваливающееся тело. Сеня был в их руках, как огромная беспомощная кукла, голова свесилась набок, из открытого рта вытекла темная жидкость, похожая на кровь, но, скорее всего, это было вино. Нужно было его вытереть, но Инна не могла заставить себя протянуть руку: пока Сеня был во власти двух женщин, она не решалась вмешиваться, могла только оторопело наблюдать. Сняв свитер, знахарка послушала сердце, потом долго щупала и давила Сенин живот. Инна пыталась понять по ее сосредоточенному лицу, есть ли у Сени шанс проснуться, но оно ничего не выражало – ни подсказки, ни даже намека. После очередного нажатия на живот Сеня издал странный звук, будто рыгнул, а потом, не открывая глаз, невнятно забормотал. Инне удалось расслышать всего несколько слов, что-то вроде: «Сейчас, сейчас… иду… где дверь?» Серафима Никитична была, похоже, этим удовлетворена, потому что оставила Сеню и молча поглядела на Инну.
– Ну что, – поспешно спросила та. – Что с ним будет?
– Не знаю, – знахарка с минуту пристально вглядывалась в Инну, будто именно от нее зависело, что будет. – Парень молодой, может, отлежится. А может, приберет его Господь, наперед тут не угадаешь. Ты с ним будь, держи его, сможешь удержать, все у вас хорошо будет. Он сейчас вдоль смерти идет, куда свернет, так и выйдет. Может, пройдет мимо, может, нет, главное, ты его не отпускай, поняла? А я пойду, травку заварю, будешь давать ему, как скажу.
Инна кивнула, потом все-таки решилась спросить:
– Как это не отпускать?
– Да как хочешь. Хочешь, за руку держи, хочешь еще как-нибудь, главное, чтобы он знал, что ты с ним, думаешь о нем, ждешь, чтоб проснулся.
– Откуда ему знать, что я о нем думаю, он же спит?
– Он сейчас все знает, – уверенно ответила знахарка. – Пойдем мы. Если что, где я живу, помнишь.
Женщины были уже на пороге, когда у Инны чуть не вырвалось: «Не уходите! Как же я здесь одна?!» Но промолчала, и они ушли.
Тишина дома накрыла ее. Сеня прекратил храпеть, но тишина была такой, что в ней было слышно его сиплое дыхание. Что-то щелкнуло в печке, там догорал разведенный Сеней огонь. Инна открыла печную дверцу и подкинула еще пару поленьев, оставшихся от принесенной Сеней охапки. С огнем ей было хоть немного менее одиноко. Все-таки кто-то почти живой рядом. Раскинувшийся на кровати Сеня тоже был рядом, но огонь был определенно живее. И он был весь здесь – в доме, в печи, – тогда как Сеня был здесь, но в то же время совершенно непонятно где: шел вдоль смерти, как сказала Серафима Никитична. Что это значит? Как это – идти вдоль смерти? Инна попыталась представить пространство, где находился сейчас Сеня, разделительную полосу между жизнью и смертью, по которой он брел, но ее воображение, обычно яркое и сильное, ничего не смогло ей подсказать. Бесполезно было вглядываться в Сенино лицо, по нему было не угадать, что проходит перед его глазами, оно было неподвижно, черты чуть заметно обострились и словно очистились: когда исчезла всегдашняя Сенина ухмылка, сошли его взвинченность и нервность, возник точно другой человек, которого Инна прежде не замечала, глубокий и серьезный, полный загадочного внутреннего напряжения. Только его губы иногда шевелились, с них срывались звуки, складывавшиеся в слова, смысла и связи которых Инне уловить не удавалось. Чтобы лучше расслышать, она наклонилась к Сене и тут заметила дрожащий багровый отсвет в черном окне. Еще раньше, чем догадалась, что это отражение печного пламени за оставшейся открытой дверцей, Инна поняла, что именно так – как крошечный мерцающий огонь в бескрайней, без единого проблеска ночи – должен чувствовать себя Сеня, обреченный в своих странствиях между жизнью и смертью на одиночество, которое не с чем сравнить на Земле, потому что живых много, мертвых бесконечно больше, и только блуждающих между теми и другими единицы, и шансов встретить друг друга у них нет. Ее собственное одиночество в сравнении с испытываемым сейчас Сеней было просто детской игрой. О нем и говорить всерьез не стоило, если бы оно не было единственным, что было у них сейчас общего, единственным, что их сближало. Инна взялиа Сенину руку в свои, его рука никак не реагировала ни на прикосновение, ни на пожатие, и безвольно лежала между ее ладонями, как прохладная вещь. Зато постепенно ей стали яснее произносимые Сеней звуки, возможно, она просто привыкла к его бормотанию и начала различать:
– Куда? Куда? Сейчас… Я сам… Я нет… Иду… Я не боюсь… Я знаю… Я смогу…
Иногда отрывочные слова и фразы меняли смысл на противоположный: «я смогу» на испуганное «не смогу», «я не боюсь» на паническое «боюсь!». Дальше слова делались неразборчивы, исчезали в невнятной абракадабре или надолго совсем смолкали, будто он входил в глубокие области, откуда голос не мог прорваться наружу. Иногда Сенины губы продолжали двигаться без звука, добавляя тишины к тишине дома и ночи за его окнами, тогда Инне приходилось сглатывать, чтобы не заложило уши. Сенино лицо не было абсолютно бездвижным, время от времени между бровями возникала вертикальная морщина, придававшая ему выражение тревоги, испуга или боли. Похоже, мало приятного было в тех местах, где он находился. Когда Сенины пальцы еле заметно зашевелились, будто он пытался сжать их, чтобы удержать Иннину руку, но сил на это у него не было, она отчетливо осознала, что он подошел совсем близко к смерти, она совсем рядом, причем не только в тех внутренних пространствах, где Сеня двигался вдоль ее пределов, но и здесь, в доме. Инне не было по-настоящему страшно, ей самой смерть ничем не угрожала, и все равно это было невыносимо тревожное присутствие, поскольку смерть собиралась забрать Сеню, и она никак не могла этому помешать. Инна стиснула Сенину руку, но это было так очевидно бесполезно, что она едва не заплакала. Закусила губу, чтобы сдержаться, и, быстро переводя взгляд из угла в угол, осматривала комнату, пытаясь угадать, где притаилась смерть. Дверь громоздкого буфета была приоткрыта, она могла быть внутри, могла скрываться за любой из картин на стенах, особенно за двумя, нет, тремя, висящими чуть криво, – эта кривизна была подозрительна, как подозрительны были старые пальто и куртки на вешалке, едва заметно колышущиеся на сквозняке занавески, полотенце над раковиной (потому что было, наоборот, слишком неподвижно, и в этом был явный обман), пара как-то косо стоящих сапог в углу комнаты, неуклюжее кресло с подломившейся ножкой – все, на чем Инна сосредотачивала взгляд, обнаруживало ущербность, которая могла быть признаком присутствия смерти. Она понимала нелепость этого своего всматривания – что она сделает, если поймет, где смерть? Швырнет в нее ботинком? Пустой бутылкой из-под выпитого Сеней вина? Но не могла остановиться. И чем дольше она всматривалась, тем обманчивее и ненадежнее делалось все, что ее окружало, насквозь пронизанное смертью, тем сильнее росла тревога.