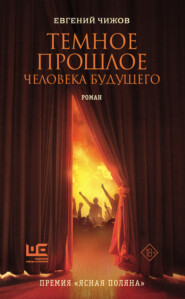По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собиратель рая
Автор
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Первым, что помнил сам Кирилл, был длинный полутемный коридор, выходящий на улицу, на залитый солнцем двор. Этот коридор был не в той квартире, где они жили сейчас, а в другой, где он родился, – мать говорила, она была коммунальной. То, что идущий по коридору к сияющему проему открытой двери человек был гораздо ближе к ребенку, о котором рассказывала Марина Львовна, чем к сегодняшнему Кириллу, подтверждалось размером свисавших со стен вещей: громадных черных корыт, нескольких велосипедов под самым потолком (непонятно было, как они там держатся и почему на него не падают), сумрачных пальто на вешалке у выхода, кажется, только притворявшихся неживыми, а на самом деле стороживших дверь и готовых схватить его своими рукавами, едва он попытается выйти. Затаив дыхание, маленький Король осторожно продвигался к выходу мимо высоченных, уходящих в полумрак потолка дверей в комнаты соседей. С этого коридора он начинался, прежде не было ничего. Шаг за шагом, преодолевая страх, выходил он из темноты чужой – материнской – памяти на свет собственной. Во дворе была песочница с деревянным грибком, к ней он и стремился.
Дальше снова были долгие годы, которые Марина Львовна помнила гораздо лучше его. Чем бесследней скользил мимо сегодняшний день, тем подробнее и резче вставал перед ней давно прошедший. Дача в Кратове, походы за грибами и ягодами, детский сад, куда она тащила сына за руку, а он упирался и норовил с ревом упасть в лужу, – все это, начисто им забытое, было для нее так отчетливо, словно ее память страдала дальнозоркостью: во всех деталях видела далекие события и не различала близких. Она могла точно сказать, с чего началась одержимость Кирилла коллекционированием – с мельхиоровой ложки, которую в одном из первых классов школы он нашел где-то на помойке, принес домой, отчистил зубным порошком и с гордостью всем показывал. Сперва это ничем, казалось, не отличалось от увлечений его сверстников: почти все что-нибудь собирали, кто значки, кто марки, кто фантики от жвачки. Кирилл выделялся разве что широтой интересов и быстротой их смены, но скоро обнаружилась другая его особенность: уже тогда он предпочитал невзрачное на вид старье новым и ярким предметам. Однажды сменял целую серию разноцветных блестящих марок с африканскими животными, купленных ему отцом, на одну-единственную, такую старую, что у нее даже зубцов не было; отец хотел было наказать его за это, но с удивлением узнал, что беззубая марка, до того затертая, что и не разобрать толком, что на ней изображено, стоит дороже его месячной зарплаты. Одноклассники собирались у Кирилла обычно по выходным и азартно меняли всё на всё, галдя при этом так, что Марине Львовне приходилось то и дело просить их вести себя потише. Но голоса сына она в общем гвалте почти не слышала: пока его друзья, толкаясь, брызгая слюной, раскрасневшись от натуги, пытались перекричать друг друга, он молча (иногда Марине Львовне казалось даже, что насмешливо) наблюдал за ними, при этом его мнение в споре, касающемся меновой стоимости любой вещи, уже было решающим. Как-то раз Марина Львовна хотела выбросить доставшийся ей от родителей и вконец развалившийся деревянный ларь с грубой резьбой на крышке. Кирилл не позволил ей, с трудом поднял ларь и утащил к себе в комнату: “Да ты что! Как ты можешь!” У него даже уши покраснели от возмущения. Учился он тогда не то в пятом, не то в шестом классе. Марина Львовна впервые посмотрела вслед сыну, уносящему на тонких ногах громадный в сравнении с его ростом ящик, с удивлением: “Откуда в нем это?” Ларь по-прежнему стоял у Кирилла в комнате, но историю о том, как он не дал матери его выбросить, он помнил только с ее слов. Очень редко ее рассказы обрастали для него плотью настоящих воспоминаний – когда ее слова вдруг разбухали в памяти, впитывая исчезнувшие цвета, запахи, ощущения реальных вещей, – гораздо чаще они оставались рассказами о ком-то, давно не имеющем к нему отношения. Иногда Кирилл задавался вопросом, как удается матери совмещать в одно таких далеких, непохожих друг на друга ребенка, школьника, студента, наконец, сегодняшнего его, если каждого из них она помнит до деталей. У него самого с трудом получалось вспомнить ее до болезни – отчасти потому, что привычное, близкое, из года в год не менявшееся запоминается плохо, но главное, конечно, потому, что болезнь проявляла себя слишком резко в десятках бессмысленных движений, повторяющихся фраз, в тревожной опустошенности погруженного в себя лица – от всего этого не удавалось отвлечься. Но однажды обнаружилось, что и Марине Львовне задача соединения в одном человеке разных образов сына дается не всегда.
Был холодный солнечный день, первый раз после долгой оттепели выпал ночью снег, и на кухне, где Кирилл завтракал, было от этого непривычно светло. Он торопился – была назначена встреча с важным клиентом, чей заказ на мебель начала двадцатого века он выполнил, – и не обратил сперва внимания на мать, вставшую возле кухонной двери, только пробормотал с набитым ртом обычное “добрутро”. На ней был темно-синий халат, лицо в резком свете выглядело очень бледным, крупные руки неловко терлись друг о друга: то ли им было холодно, то ли она просто не знала, что с ними делать. В том, что Марина Львовна стояла у двери, вместо того чтобы сесть к столу, не было ничего необычного: Кирилл давно привык, что мать может подолгу наблюдать за ним со стороны, из глубины своего выпавшего из мира сознания, прежде чем попытаться найти повод для разговора. Но когда он оторвался от еды и снова взглянул на нее, что-то непривычное было в ее улыбке. Что-то (он не сразу смог подобрать подходящее слово) заискивающее. Точно хотела заговорить и не решалась. Точно вообще не была уверена, что имеет право стоять там, где стояла, и глядеть на него. Что-то виноватое и оправдывающееся. Но у Кирилла не было времени об этом раздумывать, он просто пригласил ее сесть, взять себе завтрак: всё на столе, хлеб, масло, чай, сыр, бери что хочешь. Она раздумчиво кивнула, но не сошла с места. Кирилл намазывал бутерброд, когда Марина Львовна осторожно спросила:
– Ты ведь мой сын, да?
Тут только он наконец всё понял. Мать перестала узнавать его. Или, может, еще узнает, но не помнит, кто он, видит в нем когда-то и где-то встречавшегося полузнакомого, возможно, совсем незнакомого человека, неизвестно как оказавшегося в ее квартире. И улыбается ему вежливо, но с опаской, как незнакомому. От которого еще неизвестно, что ожидать. При этом понимает все-таки, что в это время здесь может быть только он, Кирилл, ее сын, больше некому, и подозревает свою ошибку (она же знает, что на память полагаться не может), и становится от этого еще неуверенней. Может, это вовсе не ее квартира? Тогда что она здесь делает? Как здесь очутилась? Он чувствовал, что каждое его размеренное движение: намазывание масла, деловитый глоток чая, подтверждая его, неизвестного человека, право находиться на этой кухне, сталкивает ее во всё возрастающую потерянность. И в окончательное одиночество, поскольку он был ее последней связью с внешним миром. Кроме него, у нее никого нет. А теперь, раз она не может его узнать, нет и его. Нож увяз в масле, Кирилл смотрел на мать, пытаясь нащупать прежнюю, помимо всех слов очевидную связь, и не находил ее. Что он должен сделать, как доказать, что он – это он? Как выбраться из ставшей ей за ночь чужой внешности? Как обнаружить в себе того сучившего ногами младенца или того подростка, не давшего матери выбросить полуразвалившийся ларь, которых больше нет, но которых она так намертво запомнила?! Как восстановить единство окончательно отделившегося прошлого и настоящего? Рассказать какую-нибудь старую семейную историю, которую, кроме него, никто не знает? Но, как назло, ничего подходящего в голову не приходило. Да может ведь и не поверить, слова – вещь ненадежная, особенно когда говоришь с больным человеком, живущим в плену больной логики. Подойти, обнять?
Поспешно, едва не опрокинув чашку, поднялся, точно надеялся одним рывком выскочить из незнакомца за столом, которого она в нем видела, в три шага одолел разделявшее их расстояние, обнял, прижал к себе… (Сколько лет он этого не делал? По крайней мере с тех пор, как мать заболела, Кирилл тщательно избегал не только объятий, даже случайных прикосновений.)
– Я это, я, Кирилл, ты что, совсем уже, что ли?! Совсем уже?!!
Он говорил торопливо, пряча испуг, не только для нее, но и для себя, самого себя убеждая, что нет еще, не совсем, потому что если она в самом деле его забыла, то ничего уже не поможет, она вне досягаемости. Как бы далеко не зашел процесс распада в мозгу человека, с которым живешь, этого стараешься, пока возможно, не замечать, делаешь поправку на его странности, но обращаешься с ним как со здоровым, рассчитывая, что он придает словам то же значение и контакт сохранен. Но потом наступает черта, за которой становится очевидно, что происходящее в его голове непостижимо, реакции непредсказуемы, связь нарушена, – больной превращается в инопланетянина, в существо, не поддающееся пониманию. Неужели она уже за чертой?
– Это же я, ну что ты?! Кто еще тут может быть, кроме меня?!
Ее заметно дрожавшая рука шарила по его запястью, предплечью, спине, словно она пыталась вспомнить его на ощупь, как слепая. Они и в самом деле были так близко, что не видели друг друга. И что-то сработало (полузабытые тактильные ощущения? запахи?), накатившая на мать волна беспамятства отхлынула, чуть отстранившись, она подняла лицо (Марина Львовна была почти на голову ниже высокого сына):
– Конечно ты, кто же еще? Ты что, думал, я тебя не узнала? Как я могла собственного сына не узнать? Смеешься надо мной, что ли?
Пытаясь обратить всё в шутку, она сама рассмеялась в ответ предполагаемому смеху Кирилла (хотя он даже не улыбался), они сели за стол, стали завтракать как ни в чем не бывало. Мать ела с аппетитом, нахваливала мягкий белый хлеб, вкусный сыр, Кирилл думал, что на этот раз, похоже, обошлось. И в этот день, и позже явных проблем с узнаванием больше вроде бы не возникало, но случившегося в то утро было уже не забыть. Он понимал, что рано или поздно это повторится и когда-нибудь, возможно совсем скоро, забвение станет необратимым. Иногда, обычно за завтраком, Кирилл ловил на себе недоверчивый, исподволь изучающий его взгляд матери, замечал ее неуверенную улыбку и чувствовал, что снова под подозрением: он это или не он?
Малиновый отсвет на торце многоэтажного дома над горизонтом сошел на нет, а Марины Львовны всё не было. От заката осталось только тусклое матовое свечение на западе над крышами хрущевок, на которые выходило окно Кирилла на восьмом этаже, – непричастное земле свечение, невидимое с проездов между домами, куда уже вступала ночь. Где-то там, в быстро густеющей темноте, брела мать. О чем она думала, что искала? Не угадать. Уже два часа, как она должна быть дома. Похоже, снова придется отправляться на ее поиски. До чего ж неохота! Кириллу хотелось провести вечер дома, в тепле, разбирая сегодняшние приобретения, “вещички”, как он их называл, а не бродить по темным улицам глухой окраины, где неизвестно еще на что можно напороться. Дам ей еще полчаса, решил он, может, она уже на подходе. И мысленно поклялся себе, что никогда больше не отпустит ее одну без мобильного, – он уже дважды покупал ей телефон, но Марина Львовна так и не научилась им пользоваться, первый потеряла, а второй упорно оставляла дома, боясь, что тоже потеряет. Чем сложнее казалось ей управление устройством, тем большую ценность оно в ее глазах обретало.
Кирилл закончил с ужином и приступил к изучению вещичек. Он часто покупал на рынке, до конца не разглядев вещь: чутье подсказывало ему, что нужно брать. Вещь словно сама окликала его из груды наваленного на прилавке или прямо на земле хлама, привлекала взгляд, и рука тянулась к ней раньше, чем он решал, нужна она ему или нет. В таких случаях он покупал не раздумывая, потому что знал: не возьмет он – возьмут идущие за ним следом, наблюдающие за тем, что он выбирает. Его репутация на барахолке была такой, что другие коллекционеры, а чаще не они сами, а люди, на них работающие, не спускали с него глаз. Было давно известно, что выбранное Королем, даже самое на вид невзрачное, самое никудышное (и даже то, что он только хотел взять, но передумал), не сегодня, так завтра или послезавтра непременно обретет ценность, и они (другие) еще будут локти себе кусать, если немедленно не скупят все похожие вещи, пока они отдаются за бесценок. Репутация эта скоро вышла за пределы узкого круга знатоков, и почти все, кто регулярно появлялся на рынке, присматривались к Королю. Было время, когда он, совершенно к этому не стремясь, сделался настоящим законодателем мод: стоило ему прийти на барахолку в велюровой шляпе, как тут же все велюровые шляпы, какие только можно было найти на рынке, раскупались. Стоило ему надеть кепку-лондонку или плащ-пыльник, и немедленно по всему городу начинали попадаться молодые люди в таких же кепках и плащах. Сам Король относился к своим эпигонам в лучшем случае с безразличием, чаще с презрением – влияние, которое он хотел бы оказывать, не ограничивалось отдельными случайными вещами. Тогда, на пике популярности, у него образовался круг учеников и поклонников (а также преданных поклонниц), не распавшийся и после того, как его местного значения известность одновременно с веселыми девяностыми сошла на нет. Этим избранным ученикам Кирилл Король говорил:
– Вы думаете, ваши вкусы и интересы, ваши мнения и ценности в действительности ваши? Ха! Как бы не так! (Или даже “Ха-ха!” – совершенно по-королевски получалось у него это восклицание, так что все, к кому он обращался, чувствовали себя незаслуженно облагодетельствованными его словами.) Вашего в них нет ни на грош! Всё это принадлежит времени, которое вам досталось, живи вы в другую эпоху, всё было бы совершенно иным!
Ученики и поклонницы переглядывались между собой, и по растерянности в лицах можно было догадаться, что они поспешно ищут в голове то, что было бы только их и больше ничьим, и ничего не находят.
– Время – вот абсолютная власть, с которой не поспоришь. Все тоталитарные диктатуры, все фашизмы-сталинизмы в сравнении с ним цветочки! При любой диктатуре можно затаиться, не высовываться, жить своей жизнью, наконец, сбежать из страны – только от времени никуда не убежишь! Хоть под землю заройся, всё равно ты у него на учете. О свободе мог бы всерьез говорить только тот, кто сумел бы опрокинуть или хотя бы обмануть эту власть! Иначе вся ваша свобода – пшик, пустой звук! По-настоящему свободный человек должен был бы иметь такое же право на выбор своего времени, как и на выбор места жительства!
Король излагал эти свои идеи на ходу, идя между рыночными прилавками, иногда задерживаясь, чтобы рассмотреть громоздившееся на них старье, и вся его свита, не отставая, шла за ним. Поклонницы оттесняли друг дружку, чтобы быть к нему ближе, не упустить ни одного слова, ученики следили за движениями его рук, перебиравших ветхие вещи одновременно небрежно и чутко, с королевским высокомерием и рассеянной нежностью.
– Дао какой свободе вообще может быть речь, если каждый здесь стоит перед идиотским выбором: между левыми и правыми, черными и белыми, вашими и нашими, а если он хочет быть кем-то третьим, то будет врагом и тем, и другим! Те и другие сочтут его предателем! Нет, единственный шанс свободы – в выходе из своего времени, и этот выход – здесь! – Король широким жестом показывал на заваленные хламом прилавки. – Нужно только уметь его найти. Нужно почувствовать вещь, как концентрат иного времени, которое можно извлечь из нее, как чай из листьев заварки. Нужно уловить связь вещей, их взаимные симпатии, притяжение друг к другу, их потерянность, их одиночество среди чужих… Правильно подобранные, они могут создать пространство, где сегодняшний день отменяется. А где нет настоящего, там нет и времени, есть только прошлое, продленное в будущее.
Продавцы за прилавками, до которых долетали слова Кирилла, кивали на него друг другу: “Эк заливает!” Все они знали его давным-давно и знали, что для своих он “Король”, но между собой называли его обычно дуриком или придурком – за бритый наголо череп, размашистые жесты, то и дело что-нибудь задевавшие или ронявшие, за все эти трости, галстуки-бабочки и шляпы, в которых он любил красоваться, а главное, за то, что ему можно было впарить такой хлам, какого ни один нормальный покупатель не возьмет. (Зато уж если он брал, то похожие вещи сметались потом по всему рынку.) В том, как продавцы барахолки называли Короля, не было ничего умышленно обидного, напротив, они его любили и часто приберегали для него под прилавком самое, на их взгляд, интересное. Все продавцы, в большинстве своем прокуренные старики и дошлые, прижимистые старухи, приходили на рынок не ради выгоды, хотя и торговались до последнего, а ради самого азарта торговли, из любопытства – на людей посмотреть – и просто чтобы не скучать дома. Король с его наметанным взглядом, точным вкусом, почти всегда неожиданным для продавцов выбором и готовностью бесконечно рыться в старье, по их глубоко скрытому мнению гроша ломаного не стоящем, вносил в их пребывание на рынке им самим не до конца понятный смысл. То, что для них было времяпрепровождением и привычкой, для него было профессиональной охотой за одному ему ведомой дичью. За эту непонятность они его и ценили и старались отложить для него что-нибудь эдакое, в его вкусе (“Смотри, тебе понравится. Кроме тебя, никто ж не поймет!”), чтобы поддерживать с ним особые приватные отношения. Старикам льстила его готовность оставаться с ними на равных, отвечать шуткой на подколку, не обижаться на “придурка”, короче, быть своим в доску (это умение быть своим для всех, от старичья на барахолке до изысканных коллекционеров антиквариата и их высокомерных жен, было одним из талантов Короля), при том, что они отлично понимали: он им не чета, он из совсем другого теста. Даже некоторая скаредность Короля или, скорее, просто умение считать деньги, прикрытое небрежным к ним отношением и демонстративной рассеянностью, было продавцам по душе, делало его понятнее им, ближе.
– Сколько ты за эту рухлядь хочешь? – ощупывая шевиотовый костюм, спрашивал Король у старика за прилавком в очках с одним, зато очень толстым стеклом, в котором его правый глаз выглядел чуть не вдвое больше левого и, казалось, жил своей отдельной жизнью, как рыба в аквариуме.
– Сколько-сколько?! – В ответ на названную продавцом сумму Король вытянул тонкие губы и присвистнул. – Да ты что, Ким Андреич, в таком костюме только в гроб ложиться, смотри, вон и на лацкане пятнышко.
– Да где пятнышко, где?! – На торчащей из пальто шее Ким Андреича от возмущения натянулись складки, он схватил костюм и повернул к солнцу, так что стала заметнее мешковатость поблекшей на свету ткани, словно обиженно надувшейся, прячущей за пазухой заплесневелую слежавшуюся тень. – Вещь вообще не надеванная! Это у тебя в глазах рябит от жадности!
– Тебе, Ким Андреич, пора уже птичек кормить, место себе на том свете зарабатывать, а ты всё из-за копеек торгуешься! Хорошо, уговорил, даю половину, и по рукам.
Оттого, что Король запросто шутил над тем, о чем сам старик не мог подумать без сосущей тоски в желудке, ему становилось легко, на время верилось, что над смертью и в самом деле можно посмеяться, а за это не жаль было и скинуть цену.
– Ладно, только для тебя. Другому бы в жизни такой шикарный костюм за полцены не отдал. Но ты ж кого хочешь уломаешь! Ты ведь без мыла влезешь! – Увеличенный стеклом правый глаз Ким Андреича хитро прищурился. – Ты ж такой клещ…я тебя знаю… – Старику очень хотелось показать спутникам Короля, в особенности девушкам, что уж он-то знает его как облупленного.
– Ну всё, по рукам, так по рукам. Договорились. Беру. – Когда хотел, Король быстро пресекал лишнюю фамильярность. Сложив костюм в рюкзак, он отошел от прилавка, и вслед за ним тронулась вся свита. Девушки поворачивались спиной и уходили, унося с собой свою молодость, и с лица старика сползала улыбка: он уже начинал досадовать, что продешевил. Глаз в стекле очков мелко дрожал, глядя им вслед, а когда они исчезли, заслоненные другими покупателями, застыл, потускнев от привычной тоски.
– Не любишь ты стариков, – сказал как-то Королю один из членов свиты по прозвищу Карандаш. – Не жалеешь ты их.
– Почему же не люблю? – Перед кем другим Король, может, и не стал бы оправдываться и с готовностью признал: “Да за что их любить?!”, но Карандаш был одним из первых его последователей, они были давние знакомцы. – Я их понимаю. Старым быть страшно. Они раньше, как и мы, думали, что умирать не им, а через много лет кому-то другому, кем они когда еще станут… А теперь всё, теперь им и больше никому, смерть уже вот она, рядышком, при дверях… Для них этот рынок – пересадочная станция на тот свет. Где еще можно задержаться, потолкаться, но недолго… А жалеть у нас тут, сам знаешь, никого не принято, жалость здесь не в моде.
– Когда-нибудь и нас не пожалеют, – невесело заметил Карандаш, испытывавший глухой полуосознанный ужас перед старостью, который пытался заглушить преувеличенным сочувствием к тем, кого это несчастье постигло. – И мы ведь такими будем.
– Не знаю, как ты, а я не собираюсь. Не дождетесь. – Король поглядел на Карандаша искоса, и тому показалось, что он ухмыльнулся половиной рта.
– У тебя что, эликсир вечной молодости в кладовке припрятан?
– Что-то вроде. Ну вечной не вечной, но на отпущенный мне срок должно хватить.
– Сочиняешь?
Карандаш знал Короля давно, но так и не научился до конца понимать, когда тот говорит всерьез, а когда валяет дурака: и то и другое делалось с одинаково серьезным лицом. Вообще, несмотря на давнее знакомство, близкими друзьями они так и не стали: Король был мастером дистанции, и вряд ли хоть один из множества завсегдатаев барахолки, хваставшихся перед знакомыми дружбой с ним, говорил правду.
– И не думал. Стареет то, что останавливается, застывает, перестает меняться. Здешние барахольщики уже годам к сорока все старики. Затвердевшее трескается от времени и рассыпается, сначала внутри, потом снаружи. Ну а мне это не грозит, ты ж меня знаешь…
Карандаш знал: Король обладал способностью незаметно для посторонних, но очевидно для своих меняться с каждой новой приобретенной на рынке вещью, в которой появлялся на людях. В самостроченных клешеных джинсах и приталенном лайковом пиджаке он становился вялым, как разваренная вермишель, расслабленным, как обкурившееся марихуаны “дитя цветов”. Зато в военном френче и крагах делался подтянут, походка его обретала неизвестно откуда бравшуюся выправку, а выражения – краткость и четкость приказов. В ботинках на манной каше и стиляжном пиджаке с подкладными плечами в движениях Короля появлялась упругая развинченность, скрывавшая ежеминутную готовность сбацать твист и кинуть брэк по Броду. А в белых брюках из х/б, начищенных зубным порошком полуботинках и белоснежной тенниске он становился игриво-вальяжен, как обитатель дачи в довоенном Серебряном Бору или отдыхающий во “всесоюзной здравнице” на черноморском побережье. Пальто с каракулевым воротником и шапка-пирожок придавали Королю солидности застойного чиновника средней руки, речь его замедлялась, в ней возникали паузы, покашливания и такие выражения, как “не стоит торопиться”, “посмотрим-посмотрим”, “будем думать” и даже “будем посмотреть”. Но стоило ему надеть вышитую украинскую рубашку-“антисемитку”, в какой щеголял Хрущев, и он превращался в разбитного парня, готового с обезоруживающим простецким смехом хлопнуть по плечу первого встречного и скрепить с продавцом договор словом “заметано”.
При этом ни с одной из манер поведения Король не сливался окончательно, между ним и ею всегда оставался небольшой зазор в виде небрежности, разболтанности или избыточности, с какой она преподносилась. И каждый раз этот зазор получал разное значение: скажем, небрежность обладателя френча только подчеркивала отточенность его выправки, делала ее не уставной и внешней, а слившейся с телом, впитанной всей душой, тогда как небрежность чиновника времен застоя еще больше увеличивала его солидность и укрепляла уверенность, что всё движется само собой в нужную сторону, к исторически предопределенной победе социализма.
– Как думаешь, как у него это получается? – спросил Карандаша другой член свиты, полный флегматичный парень по кличке Боцман.
Карандаш пожал плечами:
– Понятия не имею. Но у него ведь не только это получается. Он еще много чего может…
Где ее черти носят?! Давным-давно уже мать должна была вернуться! Видно, сколько ни откладывай, всё напрасно, придется идти ее искать. Кирилл встал из-за стола, подошел к окну. В проездах между пятиэтажными домами уже зажглись редкие фонари, отчего зыбкое вещество сумерек только сгустилось и стало заметно темней. Ему еще хотелось заниматься своими делами, начистить, например, до блеска купленные сегодня медные подстаканники, но сумерки ощутимо влекли к себе, тянули влиться в них и слиться с ними, словно покидающий их последний свет, различимый пока в глухом сером небе, увлекал его за собой. Показалось даже, что этот вечер за окном притягивает его не сам по себе, а своей изнанкой, своим вторым дном, бывшим точно таким же зимним вечером, но десяти- или двадцатилетней давности, как если бы где-то среди засыпанных снегом окраинных переулков скрывался незаметный проход в те далекие вечера. Короткий промежуток между днем и ночью приоткрывал перспективу, уводящую в прошлое, и густая синева этого часа обретала свою насыщенность благодаря тому, что в нее добавлялась синева давно прошедших вечеров. Чем темнее становилось, тем больше этих канувших вечеров сгущалось в полутьму настоящего, тем дальше они были от сегодняшнего дня и тем глубже уводила перспектива сумерек в напрочь забытое, отвергнутое, никогда не бывшее, где маленький Король стоял у окна, бодая лбом зимнее стекло, и с неколебимым упрямством, забыв про солдатиков и марки, ждал мать с работы. Сумерки не умещались во времени, выходили из него, длились дольше, чем им было положено, и где-то в них, неизвестно куда и зачем, брела сейчас Марина Львовна, и как ее отыскать, было непонятно.
Кирилл поймал себя на том, что, задумавшись, барабанит пальцами по подоконнику, и сразу сжал руку в кулак. Это была привычка матери: не зная, чем заполнить паузы в разговоре с ним, она то и дело принималась выстукивать по столу или подлокотнику кресла какую-нибудь бодрую мелодию. Всякое сходство с матерью пугало и злило Кирилла: он знал, что ее болезнь передается по наследству и у него есть все шансы пойти по ее стопам. Каждое новое проявление сходства, приближая его к ней, увеличивало эти шансы. Любая забывчивость выбивала его из колеи, представляясь первым проблеском надвигающейся болезни, и бесила так, что хотелось головой об стену биться, пока ускользнувшее имя или слово не выскочит из той щели в мозгу, где застряло. Забытое как будто делало ощутимой темную материю собственного мозга, окружавшую его вздувшейся мягкой опухолью, в которую слепо и напрасно тыкалась пытающаяся вспомнить мысль… Как жила с этим мать, оступавшаяся в забывчивость на каждом шагу?! Как жила она с мыслью, что болезнь Альцгеймера – а у нее была именно она – неизлечима и все лекарства, которые дает ей сын, могут только замедлить ее течение, но не остановить, что ее ждет неминуемое полное забвение сначала окружающего, людей и вещей, затем и себя, своего имени, прошлого, простейших функций тела? Марина Львовна знала о своей болезни, но, замечал Кирилл, как-то не могла на ней сосредоточиться, как вообще с трудом давалось ей сосредоточение на чем-либо в настоящем, спасительная рассеянность позволяла ей не думать о болезни точно так же, как большинству здоровых людей удается не думать о неизбежности смерти. Хотя Король и здесь был исключением – для него смерть всегда была рядом: неизлечимую болезнь матери он воспринимал как медленную смерть, понемногу выдавливающую мать из числа живых, неотвратимо проступающую в ее всё более обессмысливающемся лице, в долгих паузах, в дрожании рук, во всем… Эта близкая, такая привычная, родная смерть ни на день не позволяла ему забыть о себе, она ела с ним за одним столом, смотрела с ним по вечерам телевизор, помогала приводить в порядок вещи с барахолки, а ночью он слышал за стеной ее свистящее затрудненное дыхание. Иногда оно переходило в довольно громкий храп, мешающий спать. Король терпел, сколько мог, потом вставал, шел в комнату матери и двумя пальцами аккуратно зажимал ее крупный нос. После принятого на ночь лекарства Марина Львовна спала как убитая, разбудить ее он не боялся. В ее легких возникала череда сырых гулких звуков, с бульканьем выходящих изо рта, и храп прекращался.
Кирилл отошел на пару шагов от окна, так что на лицо упал свет настольной лампы и наполненный сумерками высокий силуэт в стекле обрел цвет и объем, сделавшись его отражением. Рост, худоба, осанка – всё это было у него от отца, как и размашистые движения длинных рук и, кажется, черты лица: узкий высокий лоб, близко посаженные глаза. Сходство с отцом было определенно наглядней, тем более что именно его хотел Кирилл видеть; сходство же с матерью как будто скрывалось под ним, и его нужно было высматривать. Но стоило ему заметить его хоть в чем-то, и от него уже было не отделаться, оно проявлялось в мимике, в множестве микродвижений, размывавших отчетливость отцовских черт, в рыхлости и помятости лица. Кирилл чувствовал, что сходство с матерью глубже, оно затаилось в нем до времени, как, возможно, затаилась в нем и ее болезнь. Что, если его коллекционирование, это одержимое сохранение бессчетных ненужных вещей, вызвано бессознательным сопротивлением надвигающемуся на него забвению? Кирилл еще раз взглянул на свое отражение, попытался ему улыбнуться – мол, не дрейфь, всё это пустые страхи, ничего еще не известно, но улыбка вышла неуверенной, явно напоминающей материнскую. Тогда он резко скривил ее на сторону, чтобы в перекошенном лице не осталось больше ничего общего с матерью. На барахолке знали эту его косую ухмылку, ею Король обычно встречал своих. Он и наголо всегда брился потому, что светлые волосы вились у него так же, как у Марины Львовны, и делали сына похожим на мать.
С восьмого этажа Кириллу были видны темные человеческие фигурки в проездах между домами; иногда та или другая напоминала ему мать, но достаточно было всмотреться внимательней, чтобы понять, что это не она. Всё, больше откладывать некуда, придется и ему превратиться в одну из этих деловито ковыляющих фигурок. Хорошо бы выйти на улицу, пока еще окончательно не стемнело. Он был почти уверен, что найдет мать, как в прошлый раз, сидящей на скамейке где-нибудь по маршруту ее ежедневной прогулки, заглядевшись на что-либо или просто задумавшись. А если нет? Придется обращаться в милицию, писать заявление, начинать розыск… Об этом даже думать не хотелось. И все-таки когда он, уже одетый, открыл входную дверь, сама собой проскользнула непрошеная и неизбежная мысль: а что, если?! Если ни он, ни милиция не смогут ее найти? Если она, нет, не попадет под машину или электричку, не дай бог, а просто исчезнет, растворится в огромном городе без следа, и никто никогда не узнает где и почему? Какая страшная тяжесть упадет с его жизни! И какая страшная наступит такой ценой оплаченная легкость! Тошнотворное предчувствие этой легкости коснулось Кирилла вместе с донесшимся из недр подъезда сквозняком, воняющим какой-то жуткой падалью или тухлятиной, пробравшим его насквозь, словно от одной только мысли об исчезновении матери в груди у него образовалась пустая дыра. Он снова закрыл дверь, немного подумал и достал из шкафа отцовский солдатский ремень. Поменял на него свой, застегнул тяжелую медную пряжку. Так-то лучше.
Вышел на лестничную площадку и вызвал лифт.
Часть II
2.
Улица, по которой она шла, совершенно определенно была незнакомой. И дело было не в низких старых домах по обе стороны – они как раз Марину Львовну совсем не удивляли, – и не в сплошном потоке машин на проезжей части, и даже не в множестве идущих ей навстречу, а в быстроте движения темных фигур по узкой мостовой, которые скользили мимо сияющих витрин, обгоняя друг друга и порождая кутерьму тени и света, бывшую непривычной ей, тревожной. Она не заметила, как успело стемнеть: когда она вышла из метро, было еще, кажется, светло, а теперь движение вокруг нее происходило в полумраке, так что Марина Львовна даже не надеялась разглядеть встречных, чтобы найти тех, кого было бы удобно спросить, как пройти к проезду Художественного театра. Несколько раз она уже пыталась обращаться наугад, но ей либо вообще ничего не отвечали, пожимая плечами на ходу, либо бросали второпях что-то невнятное, ей ничего не удавалось разобрать. Она даже не была уверена, по-русски ли те слова, которые она успела уловить. Кто вообще все эти люди, спешащие мимо нее по своим неизвестным делам? Понимают ли они ее? Она не раз слышала, что в последнее время в Москве появилось столько приезжих с Кавказа, с Востока, что настоящих москвичей почти не осталось. Что, если она сошла не на той станции и оказалась в районе, где одни эти приезжие? Что теперь делать? Как вернуться домой?! С нарастающей тревогой Марина Львовна вглядывалась в лица прохожих, и теперь уже все они казались ей восточными, точней, на первый взгляд как будто и русскими, но стоило всмотреться повнимательней (хотя как тут всмотришься в этой темноте?!), а прохожему подойти ближе, и она сразу различала резкий азиатский скос скул, острый излом бровей или темный восточный взгляд. Чужие, все кругом были чужие, не с кем было поговорить, не у кого спросить совета! У машины на обочине зажглись задние фары, вспыхнув мутными багровыми огнями в клубах выхлопных газов и отбросив на лица идущих пунцовый отсвет, в котором они выглядели совсем уже адскими. Теперь Марине Львовне стало не просто тревожно, а страшно: что это за район такой, что за люди, где она?! Изо всех сил она старалась не поддаваться подступающей панике, убеждая себя, что ни разу ведь еще не случалось, чтобы она не смогла вернуться домой. И в конце концов, эти чужие люди с поделенными между огнем и мраком лицами ничем ей не угрожают. И где-то обязательно должен быть постовой милиционер, к которому всегда можно обратиться, уж он-то наверняка ей поможет. Пытаясь успокоиться, она так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как вышла на пересекающую тротуар улицу. Она очнулась оттого, что внезапно стало очень светло, и обнаружила, что стоит совершенно одна на проезжей части в бьющих в лицо лучах фар приближающейся машины. “Что же это?!” – успела еще подумать Марина Львовна, прежде чем услышала вынимающий душу визг тормозов. К вечеру подморозило и оттаявший за день асфальт покрылся наледью, по которой машина скользила, как по катку.
На улице было заметно холоднее, чем днем, Кирилл даже подумал, не вернуться ли, чтобы надеть еще что-нибудь теплое, но потом решил, что если будет идти быстро, то не замерзнет. А идти нужно было быстро: если только не повезет наткнуться на мать сразу, ему придется обыскать весь район, с одной стороны ограниченный железной дорогой, с другой – темным промерзшим парком, где не было фонарей и куда мать зимой обычно не заглядывала. Также строго-настрого было ей запрещено приближаться к железной дороге, и до последнего времени Марина Львовна этот запрет соблюдала. Но кто ж ее знает, что ей могло взбрести в голову сегодня? Эта дорога была постоянно присутствующей угрозой, упасть на рельсы с обледенелой платформы ближней станции ничего не стоило и обычному человеку, тем более всегда погруженной в свои мысли матери, поэтому, когда проезжающая электричка затопляла окрестные дворы и проезды скрежещущим прибоем своего шума, у Кирилла сами собой возникали худшие опасения. Он гнал их от себя: в конце концов, мать пропадает не впервые, и в прошлый раз ничего страшного с ней не случилось, сидела себе как ни в чем не бывало и, забыв обо всем на свете, глядела на снег, так что и теперь нет смысла изводить себя страхами без причины. Опасения отступали вместе со спадающим гулом проходящего поезда и неотвратимо возвращались с нарастающим лязгом следующего; знакомые, даже привычные, но от этого еще более навязчивые, рисующие в воображении одни и те же жуткие картины. Защититься от них удавалось только злостью на мать, которую Кирилл в себе распалял, представляя, как она снова остолбенело глядит на какой-нибудь дурацкий фонарь или куст в снегу, бог знает почему показавшийся ей красивым, начисто забыв о сыне (если бы она о нем помнила, давно была бы дома!), рыщущем из-за нее во мраке и холоде. Злость помогала, гнала прочь страхи, наполняла силой и целеустремленностью, кажется, даже согревала, но сама скоро начинала иссякать, нуждаясь в постоянной подпитке. Эту подпитку Кирилл черпал в ледяном ветре, в колючем свете фонарей, в остервенелой ругани попадавшихся навстречу пьяных (субботним вечером их было, как всегда, много), в неживом блеске слежавшегося снега, в крепчающем морозе – в темнеющем воздухе последнего часа этого дня было разлито столько злости, что недостатка в ней не было. Свора бродячих собак протрусила мимо, две псины, что-то не поделив, сцепились в давящийся бешеным хриплым лаем клубок, отпрянули в стороны, продолжая угрожающе рычать друг на друга, дрожа от злости: пригнутые к земле головы, прижатые уши, оскаленные желтые клыки, слюна ярости на трясущихся губах.
Дальше снова были долгие годы, которые Марина Львовна помнила гораздо лучше его. Чем бесследней скользил мимо сегодняшний день, тем подробнее и резче вставал перед ней давно прошедший. Дача в Кратове, походы за грибами и ягодами, детский сад, куда она тащила сына за руку, а он упирался и норовил с ревом упасть в лужу, – все это, начисто им забытое, было для нее так отчетливо, словно ее память страдала дальнозоркостью: во всех деталях видела далекие события и не различала близких. Она могла точно сказать, с чего началась одержимость Кирилла коллекционированием – с мельхиоровой ложки, которую в одном из первых классов школы он нашел где-то на помойке, принес домой, отчистил зубным порошком и с гордостью всем показывал. Сперва это ничем, казалось, не отличалось от увлечений его сверстников: почти все что-нибудь собирали, кто значки, кто марки, кто фантики от жвачки. Кирилл выделялся разве что широтой интересов и быстротой их смены, но скоро обнаружилась другая его особенность: уже тогда он предпочитал невзрачное на вид старье новым и ярким предметам. Однажды сменял целую серию разноцветных блестящих марок с африканскими животными, купленных ему отцом, на одну-единственную, такую старую, что у нее даже зубцов не было; отец хотел было наказать его за это, но с удивлением узнал, что беззубая марка, до того затертая, что и не разобрать толком, что на ней изображено, стоит дороже его месячной зарплаты. Одноклассники собирались у Кирилла обычно по выходным и азартно меняли всё на всё, галдя при этом так, что Марине Львовне приходилось то и дело просить их вести себя потише. Но голоса сына она в общем гвалте почти не слышала: пока его друзья, толкаясь, брызгая слюной, раскрасневшись от натуги, пытались перекричать друг друга, он молча (иногда Марине Львовне казалось даже, что насмешливо) наблюдал за ними, при этом его мнение в споре, касающемся меновой стоимости любой вещи, уже было решающим. Как-то раз Марина Львовна хотела выбросить доставшийся ей от родителей и вконец развалившийся деревянный ларь с грубой резьбой на крышке. Кирилл не позволил ей, с трудом поднял ларь и утащил к себе в комнату: “Да ты что! Как ты можешь!” У него даже уши покраснели от возмущения. Учился он тогда не то в пятом, не то в шестом классе. Марина Львовна впервые посмотрела вслед сыну, уносящему на тонких ногах громадный в сравнении с его ростом ящик, с удивлением: “Откуда в нем это?” Ларь по-прежнему стоял у Кирилла в комнате, но историю о том, как он не дал матери его выбросить, он помнил только с ее слов. Очень редко ее рассказы обрастали для него плотью настоящих воспоминаний – когда ее слова вдруг разбухали в памяти, впитывая исчезнувшие цвета, запахи, ощущения реальных вещей, – гораздо чаще они оставались рассказами о ком-то, давно не имеющем к нему отношения. Иногда Кирилл задавался вопросом, как удается матери совмещать в одно таких далеких, непохожих друг на друга ребенка, школьника, студента, наконец, сегодняшнего его, если каждого из них она помнит до деталей. У него самого с трудом получалось вспомнить ее до болезни – отчасти потому, что привычное, близкое, из года в год не менявшееся запоминается плохо, но главное, конечно, потому, что болезнь проявляла себя слишком резко в десятках бессмысленных движений, повторяющихся фраз, в тревожной опустошенности погруженного в себя лица – от всего этого не удавалось отвлечься. Но однажды обнаружилось, что и Марине Львовне задача соединения в одном человеке разных образов сына дается не всегда.
Был холодный солнечный день, первый раз после долгой оттепели выпал ночью снег, и на кухне, где Кирилл завтракал, было от этого непривычно светло. Он торопился – была назначена встреча с важным клиентом, чей заказ на мебель начала двадцатого века он выполнил, – и не обратил сперва внимания на мать, вставшую возле кухонной двери, только пробормотал с набитым ртом обычное “добрутро”. На ней был темно-синий халат, лицо в резком свете выглядело очень бледным, крупные руки неловко терлись друг о друга: то ли им было холодно, то ли она просто не знала, что с ними делать. В том, что Марина Львовна стояла у двери, вместо того чтобы сесть к столу, не было ничего необычного: Кирилл давно привык, что мать может подолгу наблюдать за ним со стороны, из глубины своего выпавшего из мира сознания, прежде чем попытаться найти повод для разговора. Но когда он оторвался от еды и снова взглянул на нее, что-то непривычное было в ее улыбке. Что-то (он не сразу смог подобрать подходящее слово) заискивающее. Точно хотела заговорить и не решалась. Точно вообще не была уверена, что имеет право стоять там, где стояла, и глядеть на него. Что-то виноватое и оправдывающееся. Но у Кирилла не было времени об этом раздумывать, он просто пригласил ее сесть, взять себе завтрак: всё на столе, хлеб, масло, чай, сыр, бери что хочешь. Она раздумчиво кивнула, но не сошла с места. Кирилл намазывал бутерброд, когда Марина Львовна осторожно спросила:
– Ты ведь мой сын, да?
Тут только он наконец всё понял. Мать перестала узнавать его. Или, может, еще узнает, но не помнит, кто он, видит в нем когда-то и где-то встречавшегося полузнакомого, возможно, совсем незнакомого человека, неизвестно как оказавшегося в ее квартире. И улыбается ему вежливо, но с опаской, как незнакомому. От которого еще неизвестно, что ожидать. При этом понимает все-таки, что в это время здесь может быть только он, Кирилл, ее сын, больше некому, и подозревает свою ошибку (она же знает, что на память полагаться не может), и становится от этого еще неуверенней. Может, это вовсе не ее квартира? Тогда что она здесь делает? Как здесь очутилась? Он чувствовал, что каждое его размеренное движение: намазывание масла, деловитый глоток чая, подтверждая его, неизвестного человека, право находиться на этой кухне, сталкивает ее во всё возрастающую потерянность. И в окончательное одиночество, поскольку он был ее последней связью с внешним миром. Кроме него, у нее никого нет. А теперь, раз она не может его узнать, нет и его. Нож увяз в масле, Кирилл смотрел на мать, пытаясь нащупать прежнюю, помимо всех слов очевидную связь, и не находил ее. Что он должен сделать, как доказать, что он – это он? Как выбраться из ставшей ей за ночь чужой внешности? Как обнаружить в себе того сучившего ногами младенца или того подростка, не давшего матери выбросить полуразвалившийся ларь, которых больше нет, но которых она так намертво запомнила?! Как восстановить единство окончательно отделившегося прошлого и настоящего? Рассказать какую-нибудь старую семейную историю, которую, кроме него, никто не знает? Но, как назло, ничего подходящего в голову не приходило. Да может ведь и не поверить, слова – вещь ненадежная, особенно когда говоришь с больным человеком, живущим в плену больной логики. Подойти, обнять?
Поспешно, едва не опрокинув чашку, поднялся, точно надеялся одним рывком выскочить из незнакомца за столом, которого она в нем видела, в три шага одолел разделявшее их расстояние, обнял, прижал к себе… (Сколько лет он этого не делал? По крайней мере с тех пор, как мать заболела, Кирилл тщательно избегал не только объятий, даже случайных прикосновений.)
– Я это, я, Кирилл, ты что, совсем уже, что ли?! Совсем уже?!!
Он говорил торопливо, пряча испуг, не только для нее, но и для себя, самого себя убеждая, что нет еще, не совсем, потому что если она в самом деле его забыла, то ничего уже не поможет, она вне досягаемости. Как бы далеко не зашел процесс распада в мозгу человека, с которым живешь, этого стараешься, пока возможно, не замечать, делаешь поправку на его странности, но обращаешься с ним как со здоровым, рассчитывая, что он придает словам то же значение и контакт сохранен. Но потом наступает черта, за которой становится очевидно, что происходящее в его голове непостижимо, реакции непредсказуемы, связь нарушена, – больной превращается в инопланетянина, в существо, не поддающееся пониманию. Неужели она уже за чертой?
– Это же я, ну что ты?! Кто еще тут может быть, кроме меня?!
Ее заметно дрожавшая рука шарила по его запястью, предплечью, спине, словно она пыталась вспомнить его на ощупь, как слепая. Они и в самом деле были так близко, что не видели друг друга. И что-то сработало (полузабытые тактильные ощущения? запахи?), накатившая на мать волна беспамятства отхлынула, чуть отстранившись, она подняла лицо (Марина Львовна была почти на голову ниже высокого сына):
– Конечно ты, кто же еще? Ты что, думал, я тебя не узнала? Как я могла собственного сына не узнать? Смеешься надо мной, что ли?
Пытаясь обратить всё в шутку, она сама рассмеялась в ответ предполагаемому смеху Кирилла (хотя он даже не улыбался), они сели за стол, стали завтракать как ни в чем не бывало. Мать ела с аппетитом, нахваливала мягкий белый хлеб, вкусный сыр, Кирилл думал, что на этот раз, похоже, обошлось. И в этот день, и позже явных проблем с узнаванием больше вроде бы не возникало, но случившегося в то утро было уже не забыть. Он понимал, что рано или поздно это повторится и когда-нибудь, возможно совсем скоро, забвение станет необратимым. Иногда, обычно за завтраком, Кирилл ловил на себе недоверчивый, исподволь изучающий его взгляд матери, замечал ее неуверенную улыбку и чувствовал, что снова под подозрением: он это или не он?
Малиновый отсвет на торце многоэтажного дома над горизонтом сошел на нет, а Марины Львовны всё не было. От заката осталось только тусклое матовое свечение на западе над крышами хрущевок, на которые выходило окно Кирилла на восьмом этаже, – непричастное земле свечение, невидимое с проездов между домами, куда уже вступала ночь. Где-то там, в быстро густеющей темноте, брела мать. О чем она думала, что искала? Не угадать. Уже два часа, как она должна быть дома. Похоже, снова придется отправляться на ее поиски. До чего ж неохота! Кириллу хотелось провести вечер дома, в тепле, разбирая сегодняшние приобретения, “вещички”, как он их называл, а не бродить по темным улицам глухой окраины, где неизвестно еще на что можно напороться. Дам ей еще полчаса, решил он, может, она уже на подходе. И мысленно поклялся себе, что никогда больше не отпустит ее одну без мобильного, – он уже дважды покупал ей телефон, но Марина Львовна так и не научилась им пользоваться, первый потеряла, а второй упорно оставляла дома, боясь, что тоже потеряет. Чем сложнее казалось ей управление устройством, тем большую ценность оно в ее глазах обретало.
Кирилл закончил с ужином и приступил к изучению вещичек. Он часто покупал на рынке, до конца не разглядев вещь: чутье подсказывало ему, что нужно брать. Вещь словно сама окликала его из груды наваленного на прилавке или прямо на земле хлама, привлекала взгляд, и рука тянулась к ней раньше, чем он решал, нужна она ему или нет. В таких случаях он покупал не раздумывая, потому что знал: не возьмет он – возьмут идущие за ним следом, наблюдающие за тем, что он выбирает. Его репутация на барахолке была такой, что другие коллекционеры, а чаще не они сами, а люди, на них работающие, не спускали с него глаз. Было давно известно, что выбранное Королем, даже самое на вид невзрачное, самое никудышное (и даже то, что он только хотел взять, но передумал), не сегодня, так завтра или послезавтра непременно обретет ценность, и они (другие) еще будут локти себе кусать, если немедленно не скупят все похожие вещи, пока они отдаются за бесценок. Репутация эта скоро вышла за пределы узкого круга знатоков, и почти все, кто регулярно появлялся на рынке, присматривались к Королю. Было время, когда он, совершенно к этому не стремясь, сделался настоящим законодателем мод: стоило ему прийти на барахолку в велюровой шляпе, как тут же все велюровые шляпы, какие только можно было найти на рынке, раскупались. Стоило ему надеть кепку-лондонку или плащ-пыльник, и немедленно по всему городу начинали попадаться молодые люди в таких же кепках и плащах. Сам Король относился к своим эпигонам в лучшем случае с безразличием, чаще с презрением – влияние, которое он хотел бы оказывать, не ограничивалось отдельными случайными вещами. Тогда, на пике популярности, у него образовался круг учеников и поклонников (а также преданных поклонниц), не распавшийся и после того, как его местного значения известность одновременно с веселыми девяностыми сошла на нет. Этим избранным ученикам Кирилл Король говорил:
– Вы думаете, ваши вкусы и интересы, ваши мнения и ценности в действительности ваши? Ха! Как бы не так! (Или даже “Ха-ха!” – совершенно по-королевски получалось у него это восклицание, так что все, к кому он обращался, чувствовали себя незаслуженно облагодетельствованными его словами.) Вашего в них нет ни на грош! Всё это принадлежит времени, которое вам досталось, живи вы в другую эпоху, всё было бы совершенно иным!
Ученики и поклонницы переглядывались между собой, и по растерянности в лицах можно было догадаться, что они поспешно ищут в голове то, что было бы только их и больше ничьим, и ничего не находят.
– Время – вот абсолютная власть, с которой не поспоришь. Все тоталитарные диктатуры, все фашизмы-сталинизмы в сравнении с ним цветочки! При любой диктатуре можно затаиться, не высовываться, жить своей жизнью, наконец, сбежать из страны – только от времени никуда не убежишь! Хоть под землю заройся, всё равно ты у него на учете. О свободе мог бы всерьез говорить только тот, кто сумел бы опрокинуть или хотя бы обмануть эту власть! Иначе вся ваша свобода – пшик, пустой звук! По-настоящему свободный человек должен был бы иметь такое же право на выбор своего времени, как и на выбор места жительства!
Король излагал эти свои идеи на ходу, идя между рыночными прилавками, иногда задерживаясь, чтобы рассмотреть громоздившееся на них старье, и вся его свита, не отставая, шла за ним. Поклонницы оттесняли друг дружку, чтобы быть к нему ближе, не упустить ни одного слова, ученики следили за движениями его рук, перебиравших ветхие вещи одновременно небрежно и чутко, с королевским высокомерием и рассеянной нежностью.
– Дао какой свободе вообще может быть речь, если каждый здесь стоит перед идиотским выбором: между левыми и правыми, черными и белыми, вашими и нашими, а если он хочет быть кем-то третьим, то будет врагом и тем, и другим! Те и другие сочтут его предателем! Нет, единственный шанс свободы – в выходе из своего времени, и этот выход – здесь! – Король широким жестом показывал на заваленные хламом прилавки. – Нужно только уметь его найти. Нужно почувствовать вещь, как концентрат иного времени, которое можно извлечь из нее, как чай из листьев заварки. Нужно уловить связь вещей, их взаимные симпатии, притяжение друг к другу, их потерянность, их одиночество среди чужих… Правильно подобранные, они могут создать пространство, где сегодняшний день отменяется. А где нет настоящего, там нет и времени, есть только прошлое, продленное в будущее.
Продавцы за прилавками, до которых долетали слова Кирилла, кивали на него друг другу: “Эк заливает!” Все они знали его давным-давно и знали, что для своих он “Король”, но между собой называли его обычно дуриком или придурком – за бритый наголо череп, размашистые жесты, то и дело что-нибудь задевавшие или ронявшие, за все эти трости, галстуки-бабочки и шляпы, в которых он любил красоваться, а главное, за то, что ему можно было впарить такой хлам, какого ни один нормальный покупатель не возьмет. (Зато уж если он брал, то похожие вещи сметались потом по всему рынку.) В том, как продавцы барахолки называли Короля, не было ничего умышленно обидного, напротив, они его любили и часто приберегали для него под прилавком самое, на их взгляд, интересное. Все продавцы, в большинстве своем прокуренные старики и дошлые, прижимистые старухи, приходили на рынок не ради выгоды, хотя и торговались до последнего, а ради самого азарта торговли, из любопытства – на людей посмотреть – и просто чтобы не скучать дома. Король с его наметанным взглядом, точным вкусом, почти всегда неожиданным для продавцов выбором и готовностью бесконечно рыться в старье, по их глубоко скрытому мнению гроша ломаного не стоящем, вносил в их пребывание на рынке им самим не до конца понятный смысл. То, что для них было времяпрепровождением и привычкой, для него было профессиональной охотой за одному ему ведомой дичью. За эту непонятность они его и ценили и старались отложить для него что-нибудь эдакое, в его вкусе (“Смотри, тебе понравится. Кроме тебя, никто ж не поймет!”), чтобы поддерживать с ним особые приватные отношения. Старикам льстила его готовность оставаться с ними на равных, отвечать шуткой на подколку, не обижаться на “придурка”, короче, быть своим в доску (это умение быть своим для всех, от старичья на барахолке до изысканных коллекционеров антиквариата и их высокомерных жен, было одним из талантов Короля), при том, что они отлично понимали: он им не чета, он из совсем другого теста. Даже некоторая скаредность Короля или, скорее, просто умение считать деньги, прикрытое небрежным к ним отношением и демонстративной рассеянностью, было продавцам по душе, делало его понятнее им, ближе.
– Сколько ты за эту рухлядь хочешь? – ощупывая шевиотовый костюм, спрашивал Король у старика за прилавком в очках с одним, зато очень толстым стеклом, в котором его правый глаз выглядел чуть не вдвое больше левого и, казалось, жил своей отдельной жизнью, как рыба в аквариуме.
– Сколько-сколько?! – В ответ на названную продавцом сумму Король вытянул тонкие губы и присвистнул. – Да ты что, Ким Андреич, в таком костюме только в гроб ложиться, смотри, вон и на лацкане пятнышко.
– Да где пятнышко, где?! – На торчащей из пальто шее Ким Андреича от возмущения натянулись складки, он схватил костюм и повернул к солнцу, так что стала заметнее мешковатость поблекшей на свету ткани, словно обиженно надувшейся, прячущей за пазухой заплесневелую слежавшуюся тень. – Вещь вообще не надеванная! Это у тебя в глазах рябит от жадности!
– Тебе, Ким Андреич, пора уже птичек кормить, место себе на том свете зарабатывать, а ты всё из-за копеек торгуешься! Хорошо, уговорил, даю половину, и по рукам.
Оттого, что Король запросто шутил над тем, о чем сам старик не мог подумать без сосущей тоски в желудке, ему становилось легко, на время верилось, что над смертью и в самом деле можно посмеяться, а за это не жаль было и скинуть цену.
– Ладно, только для тебя. Другому бы в жизни такой шикарный костюм за полцены не отдал. Но ты ж кого хочешь уломаешь! Ты ведь без мыла влезешь! – Увеличенный стеклом правый глаз Ким Андреича хитро прищурился. – Ты ж такой клещ…я тебя знаю… – Старику очень хотелось показать спутникам Короля, в особенности девушкам, что уж он-то знает его как облупленного.
– Ну всё, по рукам, так по рукам. Договорились. Беру. – Когда хотел, Король быстро пресекал лишнюю фамильярность. Сложив костюм в рюкзак, он отошел от прилавка, и вслед за ним тронулась вся свита. Девушки поворачивались спиной и уходили, унося с собой свою молодость, и с лица старика сползала улыбка: он уже начинал досадовать, что продешевил. Глаз в стекле очков мелко дрожал, глядя им вслед, а когда они исчезли, заслоненные другими покупателями, застыл, потускнев от привычной тоски.
– Не любишь ты стариков, – сказал как-то Королю один из членов свиты по прозвищу Карандаш. – Не жалеешь ты их.
– Почему же не люблю? – Перед кем другим Король, может, и не стал бы оправдываться и с готовностью признал: “Да за что их любить?!”, но Карандаш был одним из первых его последователей, они были давние знакомцы. – Я их понимаю. Старым быть страшно. Они раньше, как и мы, думали, что умирать не им, а через много лет кому-то другому, кем они когда еще станут… А теперь всё, теперь им и больше никому, смерть уже вот она, рядышком, при дверях… Для них этот рынок – пересадочная станция на тот свет. Где еще можно задержаться, потолкаться, но недолго… А жалеть у нас тут, сам знаешь, никого не принято, жалость здесь не в моде.
– Когда-нибудь и нас не пожалеют, – невесело заметил Карандаш, испытывавший глухой полуосознанный ужас перед старостью, который пытался заглушить преувеличенным сочувствием к тем, кого это несчастье постигло. – И мы ведь такими будем.
– Не знаю, как ты, а я не собираюсь. Не дождетесь. – Король поглядел на Карандаша искоса, и тому показалось, что он ухмыльнулся половиной рта.
– У тебя что, эликсир вечной молодости в кладовке припрятан?
– Что-то вроде. Ну вечной не вечной, но на отпущенный мне срок должно хватить.
– Сочиняешь?
Карандаш знал Короля давно, но так и не научился до конца понимать, когда тот говорит всерьез, а когда валяет дурака: и то и другое делалось с одинаково серьезным лицом. Вообще, несмотря на давнее знакомство, близкими друзьями они так и не стали: Король был мастером дистанции, и вряд ли хоть один из множества завсегдатаев барахолки, хваставшихся перед знакомыми дружбой с ним, говорил правду.
– И не думал. Стареет то, что останавливается, застывает, перестает меняться. Здешние барахольщики уже годам к сорока все старики. Затвердевшее трескается от времени и рассыпается, сначала внутри, потом снаружи. Ну а мне это не грозит, ты ж меня знаешь…
Карандаш знал: Король обладал способностью незаметно для посторонних, но очевидно для своих меняться с каждой новой приобретенной на рынке вещью, в которой появлялся на людях. В самостроченных клешеных джинсах и приталенном лайковом пиджаке он становился вялым, как разваренная вермишель, расслабленным, как обкурившееся марихуаны “дитя цветов”. Зато в военном френче и крагах делался подтянут, походка его обретала неизвестно откуда бравшуюся выправку, а выражения – краткость и четкость приказов. В ботинках на манной каше и стиляжном пиджаке с подкладными плечами в движениях Короля появлялась упругая развинченность, скрывавшая ежеминутную готовность сбацать твист и кинуть брэк по Броду. А в белых брюках из х/б, начищенных зубным порошком полуботинках и белоснежной тенниске он становился игриво-вальяжен, как обитатель дачи в довоенном Серебряном Бору или отдыхающий во “всесоюзной здравнице” на черноморском побережье. Пальто с каракулевым воротником и шапка-пирожок придавали Королю солидности застойного чиновника средней руки, речь его замедлялась, в ней возникали паузы, покашливания и такие выражения, как “не стоит торопиться”, “посмотрим-посмотрим”, “будем думать” и даже “будем посмотреть”. Но стоило ему надеть вышитую украинскую рубашку-“антисемитку”, в какой щеголял Хрущев, и он превращался в разбитного парня, готового с обезоруживающим простецким смехом хлопнуть по плечу первого встречного и скрепить с продавцом договор словом “заметано”.
При этом ни с одной из манер поведения Король не сливался окончательно, между ним и ею всегда оставался небольшой зазор в виде небрежности, разболтанности или избыточности, с какой она преподносилась. И каждый раз этот зазор получал разное значение: скажем, небрежность обладателя френча только подчеркивала отточенность его выправки, делала ее не уставной и внешней, а слившейся с телом, впитанной всей душой, тогда как небрежность чиновника времен застоя еще больше увеличивала его солидность и укрепляла уверенность, что всё движется само собой в нужную сторону, к исторически предопределенной победе социализма.
– Как думаешь, как у него это получается? – спросил Карандаша другой член свиты, полный флегматичный парень по кличке Боцман.
Карандаш пожал плечами:
– Понятия не имею. Но у него ведь не только это получается. Он еще много чего может…
Где ее черти носят?! Давным-давно уже мать должна была вернуться! Видно, сколько ни откладывай, всё напрасно, придется идти ее искать. Кирилл встал из-за стола, подошел к окну. В проездах между пятиэтажными домами уже зажглись редкие фонари, отчего зыбкое вещество сумерек только сгустилось и стало заметно темней. Ему еще хотелось заниматься своими делами, начистить, например, до блеска купленные сегодня медные подстаканники, но сумерки ощутимо влекли к себе, тянули влиться в них и слиться с ними, словно покидающий их последний свет, различимый пока в глухом сером небе, увлекал его за собой. Показалось даже, что этот вечер за окном притягивает его не сам по себе, а своей изнанкой, своим вторым дном, бывшим точно таким же зимним вечером, но десяти- или двадцатилетней давности, как если бы где-то среди засыпанных снегом окраинных переулков скрывался незаметный проход в те далекие вечера. Короткий промежуток между днем и ночью приоткрывал перспективу, уводящую в прошлое, и густая синева этого часа обретала свою насыщенность благодаря тому, что в нее добавлялась синева давно прошедших вечеров. Чем темнее становилось, тем больше этих канувших вечеров сгущалось в полутьму настоящего, тем дальше они были от сегодняшнего дня и тем глубже уводила перспектива сумерек в напрочь забытое, отвергнутое, никогда не бывшее, где маленький Король стоял у окна, бодая лбом зимнее стекло, и с неколебимым упрямством, забыв про солдатиков и марки, ждал мать с работы. Сумерки не умещались во времени, выходили из него, длились дольше, чем им было положено, и где-то в них, неизвестно куда и зачем, брела сейчас Марина Львовна, и как ее отыскать, было непонятно.
Кирилл поймал себя на том, что, задумавшись, барабанит пальцами по подоконнику, и сразу сжал руку в кулак. Это была привычка матери: не зная, чем заполнить паузы в разговоре с ним, она то и дело принималась выстукивать по столу или подлокотнику кресла какую-нибудь бодрую мелодию. Всякое сходство с матерью пугало и злило Кирилла: он знал, что ее болезнь передается по наследству и у него есть все шансы пойти по ее стопам. Каждое новое проявление сходства, приближая его к ней, увеличивало эти шансы. Любая забывчивость выбивала его из колеи, представляясь первым проблеском надвигающейся болезни, и бесила так, что хотелось головой об стену биться, пока ускользнувшее имя или слово не выскочит из той щели в мозгу, где застряло. Забытое как будто делало ощутимой темную материю собственного мозга, окружавшую его вздувшейся мягкой опухолью, в которую слепо и напрасно тыкалась пытающаяся вспомнить мысль… Как жила с этим мать, оступавшаяся в забывчивость на каждом шагу?! Как жила она с мыслью, что болезнь Альцгеймера – а у нее была именно она – неизлечима и все лекарства, которые дает ей сын, могут только замедлить ее течение, но не остановить, что ее ждет неминуемое полное забвение сначала окружающего, людей и вещей, затем и себя, своего имени, прошлого, простейших функций тела? Марина Львовна знала о своей болезни, но, замечал Кирилл, как-то не могла на ней сосредоточиться, как вообще с трудом давалось ей сосредоточение на чем-либо в настоящем, спасительная рассеянность позволяла ей не думать о болезни точно так же, как большинству здоровых людей удается не думать о неизбежности смерти. Хотя Король и здесь был исключением – для него смерть всегда была рядом: неизлечимую болезнь матери он воспринимал как медленную смерть, понемногу выдавливающую мать из числа живых, неотвратимо проступающую в ее всё более обессмысливающемся лице, в долгих паузах, в дрожании рук, во всем… Эта близкая, такая привычная, родная смерть ни на день не позволяла ему забыть о себе, она ела с ним за одним столом, смотрела с ним по вечерам телевизор, помогала приводить в порядок вещи с барахолки, а ночью он слышал за стеной ее свистящее затрудненное дыхание. Иногда оно переходило в довольно громкий храп, мешающий спать. Король терпел, сколько мог, потом вставал, шел в комнату матери и двумя пальцами аккуратно зажимал ее крупный нос. После принятого на ночь лекарства Марина Львовна спала как убитая, разбудить ее он не боялся. В ее легких возникала череда сырых гулких звуков, с бульканьем выходящих изо рта, и храп прекращался.
Кирилл отошел на пару шагов от окна, так что на лицо упал свет настольной лампы и наполненный сумерками высокий силуэт в стекле обрел цвет и объем, сделавшись его отражением. Рост, худоба, осанка – всё это было у него от отца, как и размашистые движения длинных рук и, кажется, черты лица: узкий высокий лоб, близко посаженные глаза. Сходство с отцом было определенно наглядней, тем более что именно его хотел Кирилл видеть; сходство же с матерью как будто скрывалось под ним, и его нужно было высматривать. Но стоило ему заметить его хоть в чем-то, и от него уже было не отделаться, оно проявлялось в мимике, в множестве микродвижений, размывавших отчетливость отцовских черт, в рыхлости и помятости лица. Кирилл чувствовал, что сходство с матерью глубже, оно затаилось в нем до времени, как, возможно, затаилась в нем и ее болезнь. Что, если его коллекционирование, это одержимое сохранение бессчетных ненужных вещей, вызвано бессознательным сопротивлением надвигающемуся на него забвению? Кирилл еще раз взглянул на свое отражение, попытался ему улыбнуться – мол, не дрейфь, всё это пустые страхи, ничего еще не известно, но улыбка вышла неуверенной, явно напоминающей материнскую. Тогда он резко скривил ее на сторону, чтобы в перекошенном лице не осталось больше ничего общего с матерью. На барахолке знали эту его косую ухмылку, ею Король обычно встречал своих. Он и наголо всегда брился потому, что светлые волосы вились у него так же, как у Марины Львовны, и делали сына похожим на мать.
С восьмого этажа Кириллу были видны темные человеческие фигурки в проездах между домами; иногда та или другая напоминала ему мать, но достаточно было всмотреться внимательней, чтобы понять, что это не она. Всё, больше откладывать некуда, придется и ему превратиться в одну из этих деловито ковыляющих фигурок. Хорошо бы выйти на улицу, пока еще окончательно не стемнело. Он был почти уверен, что найдет мать, как в прошлый раз, сидящей на скамейке где-нибудь по маршруту ее ежедневной прогулки, заглядевшись на что-либо или просто задумавшись. А если нет? Придется обращаться в милицию, писать заявление, начинать розыск… Об этом даже думать не хотелось. И все-таки когда он, уже одетый, открыл входную дверь, сама собой проскользнула непрошеная и неизбежная мысль: а что, если?! Если ни он, ни милиция не смогут ее найти? Если она, нет, не попадет под машину или электричку, не дай бог, а просто исчезнет, растворится в огромном городе без следа, и никто никогда не узнает где и почему? Какая страшная тяжесть упадет с его жизни! И какая страшная наступит такой ценой оплаченная легкость! Тошнотворное предчувствие этой легкости коснулось Кирилла вместе с донесшимся из недр подъезда сквозняком, воняющим какой-то жуткой падалью или тухлятиной, пробравшим его насквозь, словно от одной только мысли об исчезновении матери в груди у него образовалась пустая дыра. Он снова закрыл дверь, немного подумал и достал из шкафа отцовский солдатский ремень. Поменял на него свой, застегнул тяжелую медную пряжку. Так-то лучше.
Вышел на лестничную площадку и вызвал лифт.
Часть II
2.
Улица, по которой она шла, совершенно определенно была незнакомой. И дело было не в низких старых домах по обе стороны – они как раз Марину Львовну совсем не удивляли, – и не в сплошном потоке машин на проезжей части, и даже не в множестве идущих ей навстречу, а в быстроте движения темных фигур по узкой мостовой, которые скользили мимо сияющих витрин, обгоняя друг друга и порождая кутерьму тени и света, бывшую непривычной ей, тревожной. Она не заметила, как успело стемнеть: когда она вышла из метро, было еще, кажется, светло, а теперь движение вокруг нее происходило в полумраке, так что Марина Львовна даже не надеялась разглядеть встречных, чтобы найти тех, кого было бы удобно спросить, как пройти к проезду Художественного театра. Несколько раз она уже пыталась обращаться наугад, но ей либо вообще ничего не отвечали, пожимая плечами на ходу, либо бросали второпях что-то невнятное, ей ничего не удавалось разобрать. Она даже не была уверена, по-русски ли те слова, которые она успела уловить. Кто вообще все эти люди, спешащие мимо нее по своим неизвестным делам? Понимают ли они ее? Она не раз слышала, что в последнее время в Москве появилось столько приезжих с Кавказа, с Востока, что настоящих москвичей почти не осталось. Что, если она сошла не на той станции и оказалась в районе, где одни эти приезжие? Что теперь делать? Как вернуться домой?! С нарастающей тревогой Марина Львовна вглядывалась в лица прохожих, и теперь уже все они казались ей восточными, точней, на первый взгляд как будто и русскими, но стоило всмотреться повнимательней (хотя как тут всмотришься в этой темноте?!), а прохожему подойти ближе, и она сразу различала резкий азиатский скос скул, острый излом бровей или темный восточный взгляд. Чужие, все кругом были чужие, не с кем было поговорить, не у кого спросить совета! У машины на обочине зажглись задние фары, вспыхнув мутными багровыми огнями в клубах выхлопных газов и отбросив на лица идущих пунцовый отсвет, в котором они выглядели совсем уже адскими. Теперь Марине Львовне стало не просто тревожно, а страшно: что это за район такой, что за люди, где она?! Изо всех сил она старалась не поддаваться подступающей панике, убеждая себя, что ни разу ведь еще не случалось, чтобы она не смогла вернуться домой. И в конце концов, эти чужие люди с поделенными между огнем и мраком лицами ничем ей не угрожают. И где-то обязательно должен быть постовой милиционер, к которому всегда можно обратиться, уж он-то наверняка ей поможет. Пытаясь успокоиться, она так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как вышла на пересекающую тротуар улицу. Она очнулась оттого, что внезапно стало очень светло, и обнаружила, что стоит совершенно одна на проезжей части в бьющих в лицо лучах фар приближающейся машины. “Что же это?!” – успела еще подумать Марина Львовна, прежде чем услышала вынимающий душу визг тормозов. К вечеру подморозило и оттаявший за день асфальт покрылся наледью, по которой машина скользила, как по катку.
На улице было заметно холоднее, чем днем, Кирилл даже подумал, не вернуться ли, чтобы надеть еще что-нибудь теплое, но потом решил, что если будет идти быстро, то не замерзнет. А идти нужно было быстро: если только не повезет наткнуться на мать сразу, ему придется обыскать весь район, с одной стороны ограниченный железной дорогой, с другой – темным промерзшим парком, где не было фонарей и куда мать зимой обычно не заглядывала. Также строго-настрого было ей запрещено приближаться к железной дороге, и до последнего времени Марина Львовна этот запрет соблюдала. Но кто ж ее знает, что ей могло взбрести в голову сегодня? Эта дорога была постоянно присутствующей угрозой, упасть на рельсы с обледенелой платформы ближней станции ничего не стоило и обычному человеку, тем более всегда погруженной в свои мысли матери, поэтому, когда проезжающая электричка затопляла окрестные дворы и проезды скрежещущим прибоем своего шума, у Кирилла сами собой возникали худшие опасения. Он гнал их от себя: в конце концов, мать пропадает не впервые, и в прошлый раз ничего страшного с ней не случилось, сидела себе как ни в чем не бывало и, забыв обо всем на свете, глядела на снег, так что и теперь нет смысла изводить себя страхами без причины. Опасения отступали вместе со спадающим гулом проходящего поезда и неотвратимо возвращались с нарастающим лязгом следующего; знакомые, даже привычные, но от этого еще более навязчивые, рисующие в воображении одни и те же жуткие картины. Защититься от них удавалось только злостью на мать, которую Кирилл в себе распалял, представляя, как она снова остолбенело глядит на какой-нибудь дурацкий фонарь или куст в снегу, бог знает почему показавшийся ей красивым, начисто забыв о сыне (если бы она о нем помнила, давно была бы дома!), рыщущем из-за нее во мраке и холоде. Злость помогала, гнала прочь страхи, наполняла силой и целеустремленностью, кажется, даже согревала, но сама скоро начинала иссякать, нуждаясь в постоянной подпитке. Эту подпитку Кирилл черпал в ледяном ветре, в колючем свете фонарей, в остервенелой ругани попадавшихся навстречу пьяных (субботним вечером их было, как всегда, много), в неживом блеске слежавшегося снега, в крепчающем морозе – в темнеющем воздухе последнего часа этого дня было разлито столько злости, что недостатка в ней не было. Свора бродячих собак протрусила мимо, две псины, что-то не поделив, сцепились в давящийся бешеным хриплым лаем клубок, отпрянули в стороны, продолжая угрожающе рычать друг на друга, дрожа от злости: пригнутые к земле головы, прижатые уши, оскаленные желтые клыки, слюна ярости на трясущихся губах.