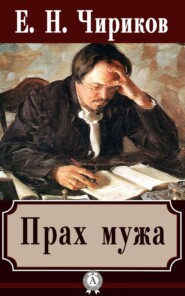По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отчий дом
Жанр
Серия
Год написания книги
1930
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казалось, что революционный сор выметен начисто. В русской избе на долгие годы утвердились полная тишина и спокойствие.
Некому было любить царя. Кто любил – любил корыстно. Любили только «дворянские бегемоты», вроде Замураевых, да промышленники и фабриканты, вроде пронырливых Ананькиных, ибо торговля и промышленность расцветать начали.
Все надежды интеллигенции рухнули, вера в свою победу исчезла, руки опустились. Оставалось только тайно ненавидеть, тайно мстить, ворчать и с понурой головой ждать лучших времен. Воплотивший эти интеллигентские чувства поэт Надсон, любимец своего времени, писал:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытою кровью землей.
Пусть разбит и поруган святой идеал,
И струится невинная кровь!
Верь – настанет пора, и погибнет Ваал
И на землю вернется любовь!
Все понимали под «невинной кровью» кровь погибших революционеров, под Ваалом – русское самодержавие, а под ожидаемой «порою» – будущую революцию.
Книга вторая
Глава I
На путях жизни Кудышевых снова всемогущий случай с крутым поворотом; в 1887 году был случай несчастный, а теперь – счастливый. Так было.
Павел Николаевич переживал «смутный период» душевного состояния. Такие приступы повторялись с ним всякий раз, когда были до зарезу нужны деньги, а их не было. Тогда все рисовалось ему в мрачном свете: и люди, и все дела их на свете, и сам себе он становился в тягость. Доходило до того, что и «птичка Божия», то есть Елена Владимировна, не разгоняла уже своим легкомыслием и наивностью мрачных дум, как тучи в ненастный день, носившихся в его голове, и заедающая самокритика ставила вопрос: счастлив ли он в личной жизни?
Именно до такой грани пессимизма дошел теперь Павел Николаевич, ибо нужда в деньгах осложнилась общей семейной ссорой.
Вы уже знаете, что когда-то Кудышевы владели помимо никудышевского еще другим имением, на реке Суре, от которого остались, как говорится в сказке о бабушкином козленке, лишь ножки да рожки: поемные луга (из-за которых не так давно был убит Егор Курносов, а трое виновников пошли в арестантские роты) да старый уютный дом в городке Алатыре, в котором жила теперь тетя Маша с «мужем на пенсии». Павел Николаевич не раз уже в критические моменты поднимал вопрос о продаже этого дома. Предложил этот проект и теперь. Алатырский городской голова купец Тыркин покупал дом за хорошую цену: место большое, около реки, паровую мукомольную мельницу вздумал тут поставить. Сразу можно бы все дыры в помещичьем корабле законопатить. Но мать и слышать не хотела: этот огромный дом с выродившимся садом и заброшенными огородами был единственным кусочком, оставшимся от ее приданого покойному Николаю Николаевичу, в этом доме она прожила раннее детство и видела столько радости, сколько не знала потом в течение всей своей жизни! Она вовсе не желает, чтобы этот родной дом превратился в мукомольную мельницу. С нее достаточно, что симбирский «ампир» попал в руки к мужлану, который опоганил его и изуродовал.
И вот снова сын заговорил об этом доме и о купце Тыркине. И, конечно, снова взволновал душу матери:
– Я тебе раз навсегда сказала уже, чтобы ты оставил этот дом в покое!
– У тебя, мать, не дом для людей, а люди для дома. Сама им не пользуешься и людям не даешь. Как собака на сене: сами не едим и другим есть не позволяем.
Это взорвало старуху: сын позволил себе сравнивать свою мать с собакой!
– Забудьте про этот дом: я оставлю его внукам, Пете с Наташей. Вы – ненадежные. Всё промотаете.
Павел Николаевич почувствовал себя оскорбленным. Он еще ничего не промотал, а лезет из кожи вон, чтобы сохранить никому не нужную Никудышевку, и делает это не для себя, а для них же.
В тот же день вечером, перебирая в уме все возможные источники заимствования, Павел Николаевич вспомнил, что тесть, генерал Замураев, уже скоро два года как не возвращает взятых заимообразно «на недельку» пятисот рублей, и отправил к нему Никиту с письмом, в котором напоминал о долге и просил прислать деньги с нарочным. Никита напоролся на земского начальника и был избит им за неприятное письмо нагайкой, а генерал прислал с ним письмо к дочери с жалобой на Павла Николаевича.
«…Нет ничего противнее, как одолжаться у близких родных, – писал в своей жалобе генерал. – Если бы я это своевременно предвидел, то, конечно, предпочел бы твоему мужу, дворянину и помещику, первого попавшегося жида-ростовщика. Но я…» и т. д.
«Птичка Божия» расплакалась, назвала «жидом» своего Малявочку, – и вот опять драма. И мать, и жена набросились.
Вышло это накануне Нового года, и потому всеми троими почувствовалось вдвойне тяжелым. Хорошо начинается новый год! Предполагался «музыкальный вечер», а вместо него:
– Пошлость и мещанство! Две дуры. Ну, мать из ума выживает, а Елена? Э! – дура. Дура благородных замураевских кровей.
Павел Николаевич заперся в своем кабинете и, раскуривая папиросу за папиросой, ходил взад и вперед, мрачно, на весь притихший дом отбивая шаг громким стуком больших охотничьих сапог…
О, если бы он знал, что счастье быстрыми шагами приближается к Никудышевке!
Но не дано знать капризы судьбы человеку даже и столь просвещенному, как Павел Николаевич.
Он оставался мрачным. Потребовал ужин в кабинет, причем крикнул повелительно вдогонку ходившему на цыпочках лакею, почтенному Фоме Алексеичу:
– Подай водки!
– Слушаюсь, ваше сиятельство!
– Я не сиятельство. Не смей так называть меня. Я не желаю быть самозванцем.
– Слушаюсь, ваше сиятельство.
– Дурак!
И спать не пошел на обычное место, лишив во гневе своем «птичку Божию» супружеского ложа. Она ждала и вздыхала до полночи, а жестокий Малявочка улегся на диване и читал Гоголя, «Мертвые души». Читал зря: все знакомо; скорей перелистывал, чем читал. Очень злорадствовал над последними страницами поэмы, где Гоголь так восторженно сравнивал Русь с бешено мчащейся, необгонимой тройкой с колокольчиками.
«…Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все остается и остается позади».
– Эх, господа писатели! И врете же вы!.. Почему Русь, когда в тарантасе сидит Чичиков, скупщик мертвых душ? Теперь другой пассажир: не Чичиков, а купец Ананькин или Тыркин, скупающие наследие душ дворянских. Разве мы, дворяне, не живые мертвецы?
Мысль Павла Николаевича перескакивала на дела государственные, правительственные, на ненавистных Замураевых, земских начальников. Читал: «Что значит это наводящее ужас движение?» – и хохотал.
– Движение! Шаг вперед и два назад!
Читал: «Русь, куда ж несешься ты? Давай ответ! Не дает ответа…»
– Под овраг! В пропасть, которую сами себе роем изо всех сил.
Читал: «…чудным звоном заливаются колокольчики, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу народы и государства!»
Тут уж нет сил не бросить книги и не расхохотаться. «Другие народы и государства»! Каково русское патриотическое самомнение?!
– Квасной патриотизм! Славянофильщина.
Злорадство над гоголевской «Русью на тройке» кончилось, но сама тройка осталась. А в самом деле, хорошо бы теперь плюнуть на эту семейную пошлятину на дворянской подкладке и махнуть куда-нибудь на троечке! Морозец окна кружевами расписал, звездное сияние на нем синими мерцаниями сверкает. Дороги хорошо накатаны. Лошади застоялись. Не махнуть ли в эту морозную ночку, полную величавой тишины, подальше? В Алатырь-городок, например? Хорошо! Отложить всякое житейское попечение и, поглубже забравшись в сани, в мягкие валяные сапоги и в сибирский ергак, помчаться так, чтобы все летело мимо, что есть на земле: и дороги, и родственные генералы, и все дураки, и дуры вообще!
Павел Николаевич оделся и пошел будить кучера Ивана Кудряшёва:
– Запрягай тройку! В корень Ваньку, пристяжками молодых: кобылу Игрунью и мерина Лешего! Потеплей одевайся – поедем далеко!
На дворе торжественное безмолвие. Здоровый такой морозище молчаливый стоит – призадумался. Ночь звездная и звонкая. Собака пробежит – словно человек ногами похрустывает. Весь мир словно в серебристо-синем сиянии дымится. Звездное сверкание на небе и на земле, на крышах, на окнах, на взлохмаченных инеем деревьях сада и парка. Из парка маленькая церковка-часовня выглядывает и крестом со звездочками перемигивается – могилы там прадедовские. Все застыло, окаменело. Словно в заколдованном царстве.
Хорошо в такие ночи колокольчики звенят, бубенцы булькают и обозы по большим дорогам скрипят, и все больше с хлебом. Недаром эти места житницей России зовутся. А спросишь, чей обоз? – непременно либо Ананькина, либо Тыркина назовут.
Перед выездом Павел Николаевич Ваньке Кудряшёву два стаканчика водки поднес, да и сам барин «как будто бы маленько выпимши». Значит, дело знамое: любит, чтобы лошади не бежали, а летели. Лихо покрикивает Ванька Кудряшёв, помахивая кнутиком, поют-заливаются колокольчики, и ныряют набитые сеном сани, словно по речным волнам, убаюкивая всю печаль и огорчения спрятавшегося в сибирский ергак Павла Николаевича, и все, как в гоголевской тройке, кроме народов и государств, остается позади: верстовые столбы, взлохмаченные избы деревенек, обозы и шагающие около них мужики с засеребренными бородами…
Всю ночь в ушах колокольчики, скрип санных подрезов, ныряние по волнам и заунывные вскрики Ваньки Кудряшёва: «Иех, голубчики!» Потом остановка на постоялом, двухчасовый отдых и кормежка лошадей, и снова то же самое…
Некому было любить царя. Кто любил – любил корыстно. Любили только «дворянские бегемоты», вроде Замураевых, да промышленники и фабриканты, вроде пронырливых Ананькиных, ибо торговля и промышленность расцветать начали.
Все надежды интеллигенции рухнули, вера в свою победу исчезла, руки опустились. Оставалось только тайно ненавидеть, тайно мстить, ворчать и с понурой головой ждать лучших времен. Воплотивший эти интеллигентские чувства поэт Надсон, любимец своего времени, писал:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытою кровью землей.
Пусть разбит и поруган святой идеал,
И струится невинная кровь!
Верь – настанет пора, и погибнет Ваал
И на землю вернется любовь!
Все понимали под «невинной кровью» кровь погибших революционеров, под Ваалом – русское самодержавие, а под ожидаемой «порою» – будущую революцию.
Книга вторая
Глава I
На путях жизни Кудышевых снова всемогущий случай с крутым поворотом; в 1887 году был случай несчастный, а теперь – счастливый. Так было.
Павел Николаевич переживал «смутный период» душевного состояния. Такие приступы повторялись с ним всякий раз, когда были до зарезу нужны деньги, а их не было. Тогда все рисовалось ему в мрачном свете: и люди, и все дела их на свете, и сам себе он становился в тягость. Доходило до того, что и «птичка Божия», то есть Елена Владимировна, не разгоняла уже своим легкомыслием и наивностью мрачных дум, как тучи в ненастный день, носившихся в его голове, и заедающая самокритика ставила вопрос: счастлив ли он в личной жизни?
Именно до такой грани пессимизма дошел теперь Павел Николаевич, ибо нужда в деньгах осложнилась общей семейной ссорой.
Вы уже знаете, что когда-то Кудышевы владели помимо никудышевского еще другим имением, на реке Суре, от которого остались, как говорится в сказке о бабушкином козленке, лишь ножки да рожки: поемные луга (из-за которых не так давно был убит Егор Курносов, а трое виновников пошли в арестантские роты) да старый уютный дом в городке Алатыре, в котором жила теперь тетя Маша с «мужем на пенсии». Павел Николаевич не раз уже в критические моменты поднимал вопрос о продаже этого дома. Предложил этот проект и теперь. Алатырский городской голова купец Тыркин покупал дом за хорошую цену: место большое, около реки, паровую мукомольную мельницу вздумал тут поставить. Сразу можно бы все дыры в помещичьем корабле законопатить. Но мать и слышать не хотела: этот огромный дом с выродившимся садом и заброшенными огородами был единственным кусочком, оставшимся от ее приданого покойному Николаю Николаевичу, в этом доме она прожила раннее детство и видела столько радости, сколько не знала потом в течение всей своей жизни! Она вовсе не желает, чтобы этот родной дом превратился в мукомольную мельницу. С нее достаточно, что симбирский «ампир» попал в руки к мужлану, который опоганил его и изуродовал.
И вот снова сын заговорил об этом доме и о купце Тыркине. И, конечно, снова взволновал душу матери:
– Я тебе раз навсегда сказала уже, чтобы ты оставил этот дом в покое!
– У тебя, мать, не дом для людей, а люди для дома. Сама им не пользуешься и людям не даешь. Как собака на сене: сами не едим и другим есть не позволяем.
Это взорвало старуху: сын позволил себе сравнивать свою мать с собакой!
– Забудьте про этот дом: я оставлю его внукам, Пете с Наташей. Вы – ненадежные. Всё промотаете.
Павел Николаевич почувствовал себя оскорбленным. Он еще ничего не промотал, а лезет из кожи вон, чтобы сохранить никому не нужную Никудышевку, и делает это не для себя, а для них же.
В тот же день вечером, перебирая в уме все возможные источники заимствования, Павел Николаевич вспомнил, что тесть, генерал Замураев, уже скоро два года как не возвращает взятых заимообразно «на недельку» пятисот рублей, и отправил к нему Никиту с письмом, в котором напоминал о долге и просил прислать деньги с нарочным. Никита напоролся на земского начальника и был избит им за неприятное письмо нагайкой, а генерал прислал с ним письмо к дочери с жалобой на Павла Николаевича.
«…Нет ничего противнее, как одолжаться у близких родных, – писал в своей жалобе генерал. – Если бы я это своевременно предвидел, то, конечно, предпочел бы твоему мужу, дворянину и помещику, первого попавшегося жида-ростовщика. Но я…» и т. д.
«Птичка Божия» расплакалась, назвала «жидом» своего Малявочку, – и вот опять драма. И мать, и жена набросились.
Вышло это накануне Нового года, и потому всеми троими почувствовалось вдвойне тяжелым. Хорошо начинается новый год! Предполагался «музыкальный вечер», а вместо него:
– Пошлость и мещанство! Две дуры. Ну, мать из ума выживает, а Елена? Э! – дура. Дура благородных замураевских кровей.
Павел Николаевич заперся в своем кабинете и, раскуривая папиросу за папиросой, ходил взад и вперед, мрачно, на весь притихший дом отбивая шаг громким стуком больших охотничьих сапог…
О, если бы он знал, что счастье быстрыми шагами приближается к Никудышевке!
Но не дано знать капризы судьбы человеку даже и столь просвещенному, как Павел Николаевич.
Он оставался мрачным. Потребовал ужин в кабинет, причем крикнул повелительно вдогонку ходившему на цыпочках лакею, почтенному Фоме Алексеичу:
– Подай водки!
– Слушаюсь, ваше сиятельство!
– Я не сиятельство. Не смей так называть меня. Я не желаю быть самозванцем.
– Слушаюсь, ваше сиятельство.
– Дурак!
И спать не пошел на обычное место, лишив во гневе своем «птичку Божию» супружеского ложа. Она ждала и вздыхала до полночи, а жестокий Малявочка улегся на диване и читал Гоголя, «Мертвые души». Читал зря: все знакомо; скорей перелистывал, чем читал. Очень злорадствовал над последними страницами поэмы, где Гоголь так восторженно сравнивал Русь с бешено мчащейся, необгонимой тройкой с колокольчиками.
«…Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все остается и остается позади».
– Эх, господа писатели! И врете же вы!.. Почему Русь, когда в тарантасе сидит Чичиков, скупщик мертвых душ? Теперь другой пассажир: не Чичиков, а купец Ананькин или Тыркин, скупающие наследие душ дворянских. Разве мы, дворяне, не живые мертвецы?
Мысль Павла Николаевича перескакивала на дела государственные, правительственные, на ненавистных Замураевых, земских начальников. Читал: «Что значит это наводящее ужас движение?» – и хохотал.
– Движение! Шаг вперед и два назад!
Читал: «Русь, куда ж несешься ты? Давай ответ! Не дает ответа…»
– Под овраг! В пропасть, которую сами себе роем изо всех сил.
Читал: «…чудным звоном заливаются колокольчики, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу народы и государства!»
Тут уж нет сил не бросить книги и не расхохотаться. «Другие народы и государства»! Каково русское патриотическое самомнение?!
– Квасной патриотизм! Славянофильщина.
Злорадство над гоголевской «Русью на тройке» кончилось, но сама тройка осталась. А в самом деле, хорошо бы теперь плюнуть на эту семейную пошлятину на дворянской подкладке и махнуть куда-нибудь на троечке! Морозец окна кружевами расписал, звездное сияние на нем синими мерцаниями сверкает. Дороги хорошо накатаны. Лошади застоялись. Не махнуть ли в эту морозную ночку, полную величавой тишины, подальше? В Алатырь-городок, например? Хорошо! Отложить всякое житейское попечение и, поглубже забравшись в сани, в мягкие валяные сапоги и в сибирский ергак, помчаться так, чтобы все летело мимо, что есть на земле: и дороги, и родственные генералы, и все дураки, и дуры вообще!
Павел Николаевич оделся и пошел будить кучера Ивана Кудряшёва:
– Запрягай тройку! В корень Ваньку, пристяжками молодых: кобылу Игрунью и мерина Лешего! Потеплей одевайся – поедем далеко!
На дворе торжественное безмолвие. Здоровый такой морозище молчаливый стоит – призадумался. Ночь звездная и звонкая. Собака пробежит – словно человек ногами похрустывает. Весь мир словно в серебристо-синем сиянии дымится. Звездное сверкание на небе и на земле, на крышах, на окнах, на взлохмаченных инеем деревьях сада и парка. Из парка маленькая церковка-часовня выглядывает и крестом со звездочками перемигивается – могилы там прадедовские. Все застыло, окаменело. Словно в заколдованном царстве.
Хорошо в такие ночи колокольчики звенят, бубенцы булькают и обозы по большим дорогам скрипят, и все больше с хлебом. Недаром эти места житницей России зовутся. А спросишь, чей обоз? – непременно либо Ананькина, либо Тыркина назовут.
Перед выездом Павел Николаевич Ваньке Кудряшёву два стаканчика водки поднес, да и сам барин «как будто бы маленько выпимши». Значит, дело знамое: любит, чтобы лошади не бежали, а летели. Лихо покрикивает Ванька Кудряшёв, помахивая кнутиком, поют-заливаются колокольчики, и ныряют набитые сеном сани, словно по речным волнам, убаюкивая всю печаль и огорчения спрятавшегося в сибирский ергак Павла Николаевича, и все, как в гоголевской тройке, кроме народов и государств, остается позади: верстовые столбы, взлохмаченные избы деревенек, обозы и шагающие около них мужики с засеребренными бородами…
Всю ночь в ушах колокольчики, скрип санных подрезов, ныряние по волнам и заунывные вскрики Ваньки Кудряшёва: «Иех, голубчики!» Потом остановка на постоялом, двухчасовый отдых и кормежка лошадей, и снова то же самое…
Другие электронные книги автора Евгений Николаевич Чириков
Другие аудиокниги автора Евгений Николаевич Чириков
Юность




 0
0
Зверь из бездны




 4.5
4.5