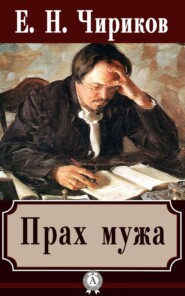По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зверь из бездны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Убил. Топором. Голову отсек…
– За что же?
– Говорю тебе: любовь свою надо было спрятать. Теперь, братец, любовь-то к ближнему твоему, которую нам Христос-то препоручил, Дьявол другой заповедью подменил. И хочешь будто всем сердцем возлюбить и любовь свою на деле доказать, а наместо того Дьявола тешишь. Так было. Господа у нас были, надо правду сказать, кляузные. Все с мужиками судились, из-за всякого пустяка – к земскому или становому таскали, скотину загоняли для штрафу и всякое. А был у них сын, тот совсем другого сорту был человек: когда на лето с ученья приезжал, то все за нас заступался. Совестливый был. И вот кончил он свое ученье и приехал из Питера с молодой женой. Вот я все поглядываю на нашу сестрицу: очень уж она походит на нашу молодую барыню. Другой раз испугаешься: не она ли? – подумаешь… Старый-то барин помер, а молодой в дело вступил, сразу все и развалилось. Отец умел оборачиваться да рожь на обухе молотить. Старого режиму был господин. А этот не умеет, совестится. Долгов много отец сыну оставил тоже. Ну вот и начал он нам землю продавать. Добрый был и совестливый: против других нам совсем задешево продал. Осталось это у них десятин двести с лесом-то, и недохватки, как видимо, стали одолевать. Вот он, молодой-то, и определился в лесничие. По лесной части он учился. А мы с ним еще и раньше дружками были: все по лесам да болотам вместе бродяжили, за охотой ходили. Ну вот, как он лесничим определился, меня лесником на службу взял. Опять вместе охотиться начали. Весь казенный лес исходили, живого места не оставили. Лет пятнадцать вместе охотились и так сдружились, что в другой раз и позабудешь, что он тебе начальник: промазку какую на охоте сделаем, если я – он меня ругает, если он – я его. Одним словом – дружки. Сколько мы с ним из одной бутылочки, из одного горлышка винца выпили! Возлюбил я его, как брата старшего. Больно уж обходительный был. Деньги есть – не считает. Какая баба придет, пожалобится, что корова сдохла: «На! Когда-нибудь сосчитаемся». Вот какой был души человек! Сколько он мне греха простил. Прогулял раз деньги казенные – поругался, погрозил, а ничего не сделал, пожалел. И все его уважали до самой этой революции. Ну а потом… как земля и воля пришла – озверели мужики. Родительский грех вспомнили. Пришли ночью громить. А он понимал, что время такое: барыню с детьми в город переправил, один остался. Думал, видно, так, что женщины и детеныши испугаться могут очень, а что его не тронут… Сам я этого погрому не делал и не видал. От греха ушел из деревни в лес и в сторожке тогда проживал. Думал так, по Писанию: отойди от зла и сотворишь благо. Сперва-то я вступался за барина, когда мужики промежду собой спалить грозили барский дом, а потом бросил: как собаки изорвать в клочки могут за мое заступление… Бог, мол, с вами. Уйду, и кончено. Как знаете. И вот раз ночью, спал уж я, кто-то в сторожку стучит. Вздул я огонь, ружье взял. Время такое: все может быть. – Кто? – спрашиваю. – Я, – говорит, – Спиридоныч, выручай! – По голосу узнал: барин мой, господин лесничий. Отпер дверь, впустил, вижу – дело неладное: без шапки, чуть дышит, и лица на нем нет… Ну, расспросил: чуть не убили, убежал и скрылся в лесу. – Пусти, – говорит, – переночевать, дай, – говорит, – отдохнуть, больше сил нет. – Заплакал. И так мне его жалко, братец, стало, что и я стал плакать. – За что? – говорит. – За чужие, – говорю, – грехи, за родительские, страдаешь, неповинно. Поплакал, немного успокоился. Я его приласкал, покормил. Затопил печку: дрожит, как в лихорадке. Испугался очень: в огонь чуть не бросили. Прямо чудом спасся: огонь на избы перекинулся, народ и оставил на минуту без внимания. Кругом свет, а чуть подальше и не видать ничего. Убег, и в лес, ко мне. Верст семь бежал. – Выручал, – говорит, – я тебя, Спиридоныч, выручи теперь ты меня. – Ложись, – говорю, – и спи спокойно. Я покараулю. Ежели что – разбужу, беги в овраги, к ручью. Туда пищу принесу… – Лег это он на лавке у печи, ножки поджал. Махонький такой стал. Даже и глядеть на него жалко. За что, думаю, такого хорошего человека так обидели? Он и так землю свою, почитай, даром нам отдал, да и остальную отдаст, ежели серьезно поговорить да припугнуть. И решил я ему помочь в беде по дружеству и любви, по христианству. Притушил огонь, вышел за дверь. На небе это зарево от пожара играет: деревня горит. Вместе с барином-то, дураки, и себя запалили… Ночь прошла благополучно. Утром дочка ко мне пришла, хлеба да молока принесла. Увидала барина, испугалась. Как уходить, увела меня с собой и говорит: «Найдут и тебя с ним убьют». Я наказал ей молчать, а на душе беспокойство… Не поплатиться бы самому за любовь к нему? – Надо бы, – говорю, – тебе уходить в город. – А он – в лихоманке, головы поднять не может. – Еще, – говорит, – одну ночку у тебя пролежу, а там пойду. – Ну что сделаешь? Под вечер было. Все думаю и беспокоюсь. Около сторожки похаживаю да послушиваю. Совсем стемнело, хотел идти, поужинать да спать лечь: надумался, инда устал. И вдруг – это голоса по лесу… Перекличка. Вроде как на облаве. Сразу догадался: разболтала Маврушка, раскрыла нашу тайну!.. И слышно, что к сторожке все ближе подходят… Вот тут и смутил Дьявол-то. Надо было разбудить барина да – «беги, куда глаза глядят», а у меня сомнение: увидят, что от меня идет, догадаются, что я его схоронил от народу. А голоса совсем рядом, за первым поворотом дороги. Я – в сторожку. Бужу, а он спит. И вдруг, это, заместо любви-то злоба у меня к нему. Что же, и я за тебя помереть должен? А голоса все громче да ближе… И злоба и ужасть напали… Как быть? Огляделся, это, по избе, и попадись мне на глаза топор… И не помню, что случилось. Схватил, размахнулся, да по шее… Только топор поспел бросить, а в сторожку мужики ввалились. «Вот он где!» – да на меня, душить… «Спрятал». А я вывернулся и кричу: «А вы сперва поглядите, как я его спрятал». Ну, видят, – зарубленный лежит, побили да ушли… Остался я один… Стою и боюсь на лавку глядеть. Сразу, это, раскрылось, какое окаянство я сделал…
Спиридоныч оборвал рассказ и махнул рукой. Лицо его сделалось строгим, глаза – тяжелыми. Опустил голову и руки. Жалобно стонал в палате больной и во сне жаловался Богу: «За что, Господи милостивый».
Спиридоныч поднял голову:
– Вон, днем Бога ругал, а во сне молится душа-то… Да оно так теперь: и Богу-то помолиться на людях опасно… Вот тоже и любить-то человека нельзя. Из любви да жалости хотел человеку жизнь спасти, а вышло… что сам же и убил. Не любовью, а злобой мы все теперь живы… Много ли теперь таких осталось, которые в крови человеческой не запачканы?.. Есть ли посреди нас такие?.. Сестрица милосердная только одна…
Паромов слушал молча, и вдруг в его памяти встала снежная ночь в степи и один широко раскрытый глаз убитого человека. Все уже пропало, только снег, и на нем страшный глаз, который не хочет закрыться и все растет, растет, заполняя собой снежное пространство…
– Третий год вот из головы не выходит, – шепчет Спиридоныч. – Думаю все о нем… Как на охоту ходили, на травушке-муравушке рядком валялись, из одного горлышка водочку пили… и как потом, под взмахнутым топором он остальной раз поглядеть на меня поспел. И сейчас вот глядит… Глядит и ровно все спрашивает: «За что же ты меня?» А что я могу ответить?
– Гм… да. Ответить нечего, – тихо отозвался Паромов, и оба стихли, перестали разговаривать. Верно, в души обоих смотрели глаза убитых ими людей… Тихо плыла ночь над землей, и в синеватых стеклах окон мерцали далекие звезды.
– Прости ты нас, окаянных! – стонал во сне красный богохульник.
Глава VII
Двух на выписку: Спиридоныча и Горленку. Точно два именинника в палате. Все завидуют. Еще бы не завидовать: прежде чем в свои части отправиться, разрешено домой на побывку на две недели. И в одну губернию. Попутчики. И так сдружились, лежа рядышком в лазарете, а тут счастливый случай. Значит, все – вместе, и горе, и радость пополам… Покуда выпустят, еще дня три пройдет. А терпения больше никакого нет. Коротают время разговорами. Теперь они, как два отрезанных ломтя. Уйдут куда-нибудь в уголок двора, сидят и все обсуждают, как поедут и что дома делается, и разные душевные разговоры. Не любят, чтобы другие их слушали. Ни к чему. Мало ли что по дружбе говорится? Ермишку особенно боится Горленка: шпионит, все ему интересно, что люди по секретам говорят. Спиридоныч его не боится, но не любит: «Пакостник и больше ничего, хотя и олатырь!» Говорят о разном, а всегда в одно место упрутся: как душу от крови человеческой омыть? Спиридоныч потерял революционный пыл и пришел к выводу, что кровью счастья не купишь, а только свою душу Дьяволу на забаву отдашь. Промахнулся. Доброй волей винтовку взял, а теперь… Никуда не уйдешь: насильно мобилизуют.
– Почему же ты добровольно вызвался людей убивать?
– А так, вроде затмения души. Я смолоду совсем другой человек был. Родители-то в сектантах были. Секта такая у нас есть – «Новый Израиль» называется. Слыхал? Ну вот… В молодости-то и я придерживался. Хотя уж по форме-то церкви придерживался, a все-таки шатался… Все настоящую правду искал. Все думал найти, где люди по Христовым заветам живут. Мальчишкой был я набожный, на клиросе пел, кадило попу подавал и руку целовал, а в заутреню на Пасху плакал от радости. Вот какой я был!.. А подрос, еще больше загорелся. Читал Евангелие и божественные книги, ходил на спор попов с разными сектантами, маленько поумнел и сам стал размышлять. Постиг, что где-нибудь между людьми должна же быть Благодать Святого Духа. Вижу, что в православной церкви не горят настоящей правдой Божией, а так, отчитывают только по форме, что положено. И стал я искать. Взял свой инструмент и стал бродить из города в город, из монастыря в монастырь. Прослышал про отца Иоанна Кронштадтского. Говорили, будто в нем Христос воплотился. Вот я бросил работу – церкву тогда в селе под Ярославлем ремонтировали, – продал инструмент и пошел в Кронштадт. Не нашел, чего искал. Заговоришь о жизни и поступках отца Иоанна в общине, а кругом рот затыкают: грех – дескать, осуждать и рассуждать не наше дело. Как же это, думаю, не наше дело, когда Господь мне разум дал? Махнул рукой и ушел… И вот впал я, друг, в тоску и в безверие. Пить стал. Доходил до последнего. Штаны да рубаха, и больше ничего. А тут война подошла кругосветная… Нахлебался крови. Потом эти люди объявились, коммунисты самые. И взбреди в башку, что они-то и приведут настоящую правду Христову на землю… А уж женат был. Не пускала жена, плакала, а я опять загорелся, захотел правде Божией послужить. Ну, вот и того… видишь сам, что на земле делается… Опять в крови захлебываемся… Так-то. Не хочу больше… Не могу. Как винтовку чистить – руки дрожат…
– Да, видно, с винтовкой правды не найдешь… – задумчиво говорил Горленка и, оглядевшись по сторонам, начинал говорить о том, что бросить надо братоубийство это…
– Милый! Верно. А как сделать? Силой заставят. Сунут в руки винтовку, а позади пулемет поставят: иди, убивай! Куда уйдешь от этого окаянства? Некуда. Дьявол царствует над нами. В Писании действительно сказано: отойди от зла и сотвори благо, а ты научи, как отойти! Ты, Горленка, как вижу, много знаешь, вроде как учитель какой, а вот тоже не скажешь, как отойти…
– Можно отойти… Как-нибудь придумаем…
Пролежав два месяца в лазарете вместе с «красными», Паромов присмотрелся поближе к врагам и потерял прежнюю злобу к ним. Несчастные, сбитые с толку люди, часто хорошие и добрые, часто обманутые мечтатели, часто подневольные рабы с винтовками, частью фанатики и маньяки, прочитавшие только одну умную книгу о революции. Около них много всякого человеческого хлама и мусора жизни, из породы «паразитирующих»… А встречаются вот и такие, как Спиридоныч. Немного, но есть и такие праведники, заблудившиеся на путях исканий «правды Божией» на земле… А разве у них не то же? Разве уж так много у них таких «белых» Спиридонычей?.. Разве их не облепили кругом, как мухи – сахар, хлам и мусор революции? Разве у них нет фанатиков и мечтателей, тайно лелеющих надежды вернуть прошлое со всей его неправдой, против которой бились и в борьбе гибли тысячи лучших и честнейших русских людей? В этой братской резне погибают праведники, «Спиридонычи» обеих сторон, убивая друг друга. А правда жизни в стороне. Она не принимает ни тех, ни других и делает бессмысленным это взаимное истребление.
Страшный обман и самообман. Величайшая из дьявольских провокаций. И орудие ее – «Зверь из бездны», ненависть и злоба, ослепившие душу и разум человеческий, с одной стороны, творящие вот таких «Ермишек», а с другой, для них, «подпоручиков Изюмовых», сузившие смысл своего существования до одной маниакальной цели – убить как можно больше «красных», и ведущих учет своим убийствам в записной книжке. Иногда Паромову приходила такая мысль: если бы заключить перемирие на один только день и перемешать, как колоду карт, «красных» с «белыми», то на другой же день исчезла бы властвующая над толпой злоба, и ненависть и борьба сама собой прекратилась бы. Беспрерывно проливаемая кровь, как керосин для стихающего пожара. Надо положить конец этому кровавому пиршеству Дьявола. Но какими путями? Как укротить «Зверя из бездны»? Огромное большинство и здесь и там тайно думают, как и Спиридоныч, об отдыхе, о доме, о семье, о тихих радостях мирной жизни, все пресыщены кровью и слезами. Кажется порою, в тихие вечера и тихие беседы людей и здесь и там, что вот стоит только какому-то большому бесстрашному и сильному духом человеку появиться между ними и сказать: «Бросайте оружие убийства и расходитесь по домам!» – и все опомнятся, и кровавый туман рассеется, а люди начнут плакать от радости, что наконец-то явился пророк от Господа. Но нет его, пророка! Не является. А являются пророки «Зверя из бездны» и вливают непрестанную злобу в души человеческие. Но как же быть тем, кто прозрел? Как быть, если ты освободился от власти «Зверя» и не злобу, а тоску и сожаление рождает этот бал Сатаны? Во имя чего убивать? И кого убивать? Слепых и обманутых? Во имя родины? Но родина прежде всего в твоем народе, стало быть, во имя родины убивать родину? Во имя освобождения ее от губящих ее фанатиков? Но фанатики есть и здесь и там, и в этом братоубийстве они всегда Каины, а не Авели. Родина! Огромная, великая, необъятная родина… в руках кучки Каинов. Откуда их сила? Только в пробужденном ими «Звере», и пока мы во власти «Зверя», мы будем оставаться рабами нашей злобы и ненависти… Надо утишить бездны людского моря, надо убить самого «Зверя». Другого выхода и спасения нет. А его не убьешь ни пулями, ни снарядами. Он, как сказочный дракон: вместо каждой отрубленной головы у него вырастают две новых. Его убить можно только любовью. Вот такой любовью, которая, как неугасимая лампада перед образом, в душе сестры Вероники к несчастным обманутым людям… Не идея социализма или коммунизма, или монархизма, или какая-нибудь другая политическая или социально-экономическая идея выведет нас на путь к «Светлой Обители», а только освобождение душ от власти «Зверя». Только когда стихнут вихри над взбаламученным морем и «Зверь», вышедший из черных бездн, снова провалится в бездны морские, выглянет солнышко любви. И тогда исчезнут, как дым, как воск перед лицом огня, фанатики – отражение лика «Звериного», и «Волки в овечьих шкурах», пасущие стада озлобленных и слепых.
Такие мысли и раньше приходили в голову Паромова, а теперь, когда он пожил рядом с «врагами» во вражеской шкуре, стояли неотступно и преследовали душу, требуя действенного отклика. Но что же делать? Если ты здесь будешь проповедовать: «Долой Гражданскую войну!» – тебя расстреляют как самого злейшего врага; если будешь делать это там – сделают то же самое. Не проповедовать, а просто бежать от убийства – тогда и здесь, и там ты дезертир, подлежащий расстрелу или повешению.
Так в долгие зимние ночи, в стане врагов, созревала в душе Паромова идея «вооруженного нейтралитета» – вооруженное дезертирство…
Ну вот и пришел долгожданный день освобождения. Всю ночь Горленка с Спиридонычем глаз не смыкали: не спалось от волнения и радости. С солнышком поднялись и стали в дорогу снаряжаться. И собирать-то нечего, а все гребтилось. Не умели своей радости спрятать: все улыбались да посмеивались. А товарищи все растревожились, тоже рано, как куры с наседел, с коек поскакали, а зачем – и сами не знают. Лежали только те, кто совсем не вставал. По-разному в их душах это событие отзывается: одних раздражает, и они тихо ропщут:
– Воюй, воюй – все конца нет.
Другие посматривают с плохо скрытой завистью, иные с печалью в глазах: вспомнили родной дом, деревню, кто – мать, кто – жену, молча вздыхают. Некоторые зло подшучивают:
– Ты, Спиридоныч, молебствие бы в чулане отслужил!
– Он – ловкий: без попа вымолил, без всякого расходу. Все в чулане шептал: «Подай да подай, Господи!» – вот и добился…
– Надоел Богу-то. Поди, говорит, ко всем чертям.
Спиридоныч не сердился. Пускай! Когда он вышел из комнаты сестрицы – прощался, – на глазах его были слезы. Потом ходил Горленка: вышел тоже задумчивый и тоскливый. Точно радость в комнате у сестрицы оставили.
Провожать товарищи на крыльцо вышли. И сестрица между ними. Горленка все оглядывался, точно потерял там, позади, что-то. Спиридоныч торопился поскорее улицу миновать и в поле за городок выйти. Словно боялся, что его воротят.
Был уже март в начале. Весна тихонько посмеивалась. Снега спали, дороги раскисли. Капель тяжело падала с ледяных сосулек. Ручьи в разных местах бормотали. Солнышко спины пригревало. А ветерок еще холодноватый, сырой. Утро было радостное, все в сиянье, а в оставшейся позади церкви к утренним часам звонили – печально, кротко. И звоны в весенней радости пробуждали в душе Горленка далекие годы детства. Вышли уже и за город, а звоны все слышно. Спиридоныч снял шапку, перекрестился и сказал:
– Слава долготерпению Твоему, Господи!
Паромов шел медленной, тяжелой поступью и отставал от Спиридоныча.
– Ты что, товарищ, точно и уходить тебе неохота? Что ты запечалился так?
– А так, знаешь… Тоскливо что-то.
– Небось, сестрицу жалко?.. Да, брат, это верно: немного таких на свете.
Спиридоныч мудр был в простоте сердца своего. Угадал. Паромов думал о Веронике, и не было у него, как у спутника, радости в душе от весеннего сияния, дуновений, бульканья ручейков. Точно вся радость осталась позади, а впереди ничего не было. Как часто он раньше тосковал по ласкам Лады, лелеял мечту о свидании с ней и своим ребенком, а теперь точно и Лада с маленькой Евочкой остались тоже позади… Перед глазами все еще стояла палата, тихий вечер, полумрак, и в нем, как белый призрак, стройная женщина, то плавно идущая, то склонившаяся над изголовьем больного. Шаги становились замедленными, сомневающимися, и точно кто-то тайно спрашивал: «Зачем и куда ты идешь?» И в самом деле, куда и зачем? Ведь он не Горленка, а Паромов. Как былинному витязю, ему на пути встанет перепутье с двумя столбами, и на обоих надписи, грозящие смертью. Пойдешь в часть Горленки – тайна немедленно раскроется, и превратишься в «белого шпиона», расстреляют. Пойдешь по другому пути – превратишься в «красного шпиона», и тоже расстреляют… Вот если бы можно было не воевать, а устроиться при лазарете сторожем или служителем и исполнять приказы Вероники, он никуда не пошел бы. А потом, когда выпал бы благоприятный момент, они оба убежали бы… Куда?.. В Крым. Это единственный уголок, где есть покой и мир и где можно не убивать. Одна она не сумеет туда пробраться. Когда прощался, наскоро рассказал ей, какими путями пробираться туда. Эх, как она любит Бориса! Странная: сунула ему что-то в карман… Вспомнил про это и, вынув, стал развертывать бумагу: обручальное кольцо. Сказала: «Это Борису, если…» Хотела сказать «если жив», но испугалась и поправилась: «Если встретитесь». Едва ли. Либо я, либо он, а не отвертимся оба… Может быть, даже уже… он. А на том свете не женятся и не выходят замуж…
Паромов машинально надел кольцо на палец и, отбросив бумажку, задумчиво пропел из «Пиковой дамы»:
– «Сегодня ты, а завтра я».
– Что говоришь?
– Все, говорю, может быть…
– Ничего не известно… Ни-чего-го.
– Да, брат, быстры, как волны, дни нашей жизни.
– А я вот иду и думаю: что у меня там, дома, делается? Неизвестно. Ничего не известно. Может, и нет там никого. Может, и иду-то зря…
Дошли до станции и два дня воевали, чтобы попасть в теплушку. Попали наконец и поехали.
– Никогда раньше и скотину так не возили, – сердился Спиридоныч.
Если бы Данте видел внутренность этой теплушки и то, что в ней творилось, он непременно взял бы эту картину для изображения адских мук, изобретенных для грешников и грешниц Дьяволом. Ком сплетшихся червей, грязных и вонючих, совершающих явно все, что раньше люди делали в уединении. И когда Паромов вспоминал невесту Бориса, она начинала ему казаться не живым настоящим человеком, а героиней из сказок Шехерезады или из выдумок необузданного фантазера Ариосто. Он представлял себе жениха с невестой в этой теплушке и начинал хохотать…
– Что тебе весело? Что людям спать не даешь? Ночь, а ты…
– Посмотри вон!..
Подслеповатый фонарь подсматривал, что делают черви. Храпели, пыхтели, лежа, как дрова, друг на друге. Сверкали нагие толстые ноги в человеческой куче меж детских голов и тоненьких ручек, и солдат с бабой пыхтели, совершая без всякого стеснения некоторое физиологическое отправление. А кто-то из темноты, посмеиваясь, говорил:
– Недаром он ее посадил в теплушку-то!.. Уговор лучше денег.
– За что же?
– Говорю тебе: любовь свою надо было спрятать. Теперь, братец, любовь-то к ближнему твоему, которую нам Христос-то препоручил, Дьявол другой заповедью подменил. И хочешь будто всем сердцем возлюбить и любовь свою на деле доказать, а наместо того Дьявола тешишь. Так было. Господа у нас были, надо правду сказать, кляузные. Все с мужиками судились, из-за всякого пустяка – к земскому или становому таскали, скотину загоняли для штрафу и всякое. А был у них сын, тот совсем другого сорту был человек: когда на лето с ученья приезжал, то все за нас заступался. Совестливый был. И вот кончил он свое ученье и приехал из Питера с молодой женой. Вот я все поглядываю на нашу сестрицу: очень уж она походит на нашу молодую барыню. Другой раз испугаешься: не она ли? – подумаешь… Старый-то барин помер, а молодой в дело вступил, сразу все и развалилось. Отец умел оборачиваться да рожь на обухе молотить. Старого режиму был господин. А этот не умеет, совестится. Долгов много отец сыну оставил тоже. Ну вот и начал он нам землю продавать. Добрый был и совестливый: против других нам совсем задешево продал. Осталось это у них десятин двести с лесом-то, и недохватки, как видимо, стали одолевать. Вот он, молодой-то, и определился в лесничие. По лесной части он учился. А мы с ним еще и раньше дружками были: все по лесам да болотам вместе бродяжили, за охотой ходили. Ну вот, как он лесничим определился, меня лесником на службу взял. Опять вместе охотиться начали. Весь казенный лес исходили, живого места не оставили. Лет пятнадцать вместе охотились и так сдружились, что в другой раз и позабудешь, что он тебе начальник: промазку какую на охоте сделаем, если я – он меня ругает, если он – я его. Одним словом – дружки. Сколько мы с ним из одной бутылочки, из одного горлышка винца выпили! Возлюбил я его, как брата старшего. Больно уж обходительный был. Деньги есть – не считает. Какая баба придет, пожалобится, что корова сдохла: «На! Когда-нибудь сосчитаемся». Вот какой был души человек! Сколько он мне греха простил. Прогулял раз деньги казенные – поругался, погрозил, а ничего не сделал, пожалел. И все его уважали до самой этой революции. Ну а потом… как земля и воля пришла – озверели мужики. Родительский грех вспомнили. Пришли ночью громить. А он понимал, что время такое: барыню с детьми в город переправил, один остался. Думал, видно, так, что женщины и детеныши испугаться могут очень, а что его не тронут… Сам я этого погрому не делал и не видал. От греха ушел из деревни в лес и в сторожке тогда проживал. Думал так, по Писанию: отойди от зла и сотворишь благо. Сперва-то я вступался за барина, когда мужики промежду собой спалить грозили барский дом, а потом бросил: как собаки изорвать в клочки могут за мое заступление… Бог, мол, с вами. Уйду, и кончено. Как знаете. И вот раз ночью, спал уж я, кто-то в сторожку стучит. Вздул я огонь, ружье взял. Время такое: все может быть. – Кто? – спрашиваю. – Я, – говорит, – Спиридоныч, выручай! – По голосу узнал: барин мой, господин лесничий. Отпер дверь, впустил, вижу – дело неладное: без шапки, чуть дышит, и лица на нем нет… Ну, расспросил: чуть не убили, убежал и скрылся в лесу. – Пусти, – говорит, – переночевать, дай, – говорит, – отдохнуть, больше сил нет. – Заплакал. И так мне его жалко, братец, стало, что и я стал плакать. – За что? – говорит. – За чужие, – говорю, – грехи, за родительские, страдаешь, неповинно. Поплакал, немного успокоился. Я его приласкал, покормил. Затопил печку: дрожит, как в лихорадке. Испугался очень: в огонь чуть не бросили. Прямо чудом спасся: огонь на избы перекинулся, народ и оставил на минуту без внимания. Кругом свет, а чуть подальше и не видать ничего. Убег, и в лес, ко мне. Верст семь бежал. – Выручал, – говорит, – я тебя, Спиридоныч, выручи теперь ты меня. – Ложись, – говорю, – и спи спокойно. Я покараулю. Ежели что – разбужу, беги в овраги, к ручью. Туда пищу принесу… – Лег это он на лавке у печи, ножки поджал. Махонький такой стал. Даже и глядеть на него жалко. За что, думаю, такого хорошего человека так обидели? Он и так землю свою, почитай, даром нам отдал, да и остальную отдаст, ежели серьезно поговорить да припугнуть. И решил я ему помочь в беде по дружеству и любви, по христианству. Притушил огонь, вышел за дверь. На небе это зарево от пожара играет: деревня горит. Вместе с барином-то, дураки, и себя запалили… Ночь прошла благополучно. Утром дочка ко мне пришла, хлеба да молока принесла. Увидала барина, испугалась. Как уходить, увела меня с собой и говорит: «Найдут и тебя с ним убьют». Я наказал ей молчать, а на душе беспокойство… Не поплатиться бы самому за любовь к нему? – Надо бы, – говорю, – тебе уходить в город. – А он – в лихоманке, головы поднять не может. – Еще, – говорит, – одну ночку у тебя пролежу, а там пойду. – Ну что сделаешь? Под вечер было. Все думаю и беспокоюсь. Около сторожки похаживаю да послушиваю. Совсем стемнело, хотел идти, поужинать да спать лечь: надумался, инда устал. И вдруг – это голоса по лесу… Перекличка. Вроде как на облаве. Сразу догадался: разболтала Маврушка, раскрыла нашу тайну!.. И слышно, что к сторожке все ближе подходят… Вот тут и смутил Дьявол-то. Надо было разбудить барина да – «беги, куда глаза глядят», а у меня сомнение: увидят, что от меня идет, догадаются, что я его схоронил от народу. А голоса совсем рядом, за первым поворотом дороги. Я – в сторожку. Бужу, а он спит. И вдруг, это, заместо любви-то злоба у меня к нему. Что же, и я за тебя помереть должен? А голоса все громче да ближе… И злоба и ужасть напали… Как быть? Огляделся, это, по избе, и попадись мне на глаза топор… И не помню, что случилось. Схватил, размахнулся, да по шее… Только топор поспел бросить, а в сторожку мужики ввалились. «Вот он где!» – да на меня, душить… «Спрятал». А я вывернулся и кричу: «А вы сперва поглядите, как я его спрятал». Ну, видят, – зарубленный лежит, побили да ушли… Остался я один… Стою и боюсь на лавку глядеть. Сразу, это, раскрылось, какое окаянство я сделал…
Спиридоныч оборвал рассказ и махнул рукой. Лицо его сделалось строгим, глаза – тяжелыми. Опустил голову и руки. Жалобно стонал в палате больной и во сне жаловался Богу: «За что, Господи милостивый».
Спиридоныч поднял голову:
– Вон, днем Бога ругал, а во сне молится душа-то… Да оно так теперь: и Богу-то помолиться на людях опасно… Вот тоже и любить-то человека нельзя. Из любви да жалости хотел человеку жизнь спасти, а вышло… что сам же и убил. Не любовью, а злобой мы все теперь живы… Много ли теперь таких осталось, которые в крови человеческой не запачканы?.. Есть ли посреди нас такие?.. Сестрица милосердная только одна…
Паромов слушал молча, и вдруг в его памяти встала снежная ночь в степи и один широко раскрытый глаз убитого человека. Все уже пропало, только снег, и на нем страшный глаз, который не хочет закрыться и все растет, растет, заполняя собой снежное пространство…
– Третий год вот из головы не выходит, – шепчет Спиридоныч. – Думаю все о нем… Как на охоту ходили, на травушке-муравушке рядком валялись, из одного горлышка водочку пили… и как потом, под взмахнутым топором он остальной раз поглядеть на меня поспел. И сейчас вот глядит… Глядит и ровно все спрашивает: «За что же ты меня?» А что я могу ответить?
– Гм… да. Ответить нечего, – тихо отозвался Паромов, и оба стихли, перестали разговаривать. Верно, в души обоих смотрели глаза убитых ими людей… Тихо плыла ночь над землей, и в синеватых стеклах окон мерцали далекие звезды.
– Прости ты нас, окаянных! – стонал во сне красный богохульник.
Глава VII
Двух на выписку: Спиридоныча и Горленку. Точно два именинника в палате. Все завидуют. Еще бы не завидовать: прежде чем в свои части отправиться, разрешено домой на побывку на две недели. И в одну губернию. Попутчики. И так сдружились, лежа рядышком в лазарете, а тут счастливый случай. Значит, все – вместе, и горе, и радость пополам… Покуда выпустят, еще дня три пройдет. А терпения больше никакого нет. Коротают время разговорами. Теперь они, как два отрезанных ломтя. Уйдут куда-нибудь в уголок двора, сидят и все обсуждают, как поедут и что дома делается, и разные душевные разговоры. Не любят, чтобы другие их слушали. Ни к чему. Мало ли что по дружбе говорится? Ермишку особенно боится Горленка: шпионит, все ему интересно, что люди по секретам говорят. Спиридоныч его не боится, но не любит: «Пакостник и больше ничего, хотя и олатырь!» Говорят о разном, а всегда в одно место упрутся: как душу от крови человеческой омыть? Спиридоныч потерял революционный пыл и пришел к выводу, что кровью счастья не купишь, а только свою душу Дьяволу на забаву отдашь. Промахнулся. Доброй волей винтовку взял, а теперь… Никуда не уйдешь: насильно мобилизуют.
– Почему же ты добровольно вызвался людей убивать?
– А так, вроде затмения души. Я смолоду совсем другой человек был. Родители-то в сектантах были. Секта такая у нас есть – «Новый Израиль» называется. Слыхал? Ну вот… В молодости-то и я придерживался. Хотя уж по форме-то церкви придерживался, a все-таки шатался… Все настоящую правду искал. Все думал найти, где люди по Христовым заветам живут. Мальчишкой был я набожный, на клиросе пел, кадило попу подавал и руку целовал, а в заутреню на Пасху плакал от радости. Вот какой я был!.. А подрос, еще больше загорелся. Читал Евангелие и божественные книги, ходил на спор попов с разными сектантами, маленько поумнел и сам стал размышлять. Постиг, что где-нибудь между людьми должна же быть Благодать Святого Духа. Вижу, что в православной церкви не горят настоящей правдой Божией, а так, отчитывают только по форме, что положено. И стал я искать. Взял свой инструмент и стал бродить из города в город, из монастыря в монастырь. Прослышал про отца Иоанна Кронштадтского. Говорили, будто в нем Христос воплотился. Вот я бросил работу – церкву тогда в селе под Ярославлем ремонтировали, – продал инструмент и пошел в Кронштадт. Не нашел, чего искал. Заговоришь о жизни и поступках отца Иоанна в общине, а кругом рот затыкают: грех – дескать, осуждать и рассуждать не наше дело. Как же это, думаю, не наше дело, когда Господь мне разум дал? Махнул рукой и ушел… И вот впал я, друг, в тоску и в безверие. Пить стал. Доходил до последнего. Штаны да рубаха, и больше ничего. А тут война подошла кругосветная… Нахлебался крови. Потом эти люди объявились, коммунисты самые. И взбреди в башку, что они-то и приведут настоящую правду Христову на землю… А уж женат был. Не пускала жена, плакала, а я опять загорелся, захотел правде Божией послужить. Ну, вот и того… видишь сам, что на земле делается… Опять в крови захлебываемся… Так-то. Не хочу больше… Не могу. Как винтовку чистить – руки дрожат…
– Да, видно, с винтовкой правды не найдешь… – задумчиво говорил Горленка и, оглядевшись по сторонам, начинал говорить о том, что бросить надо братоубийство это…
– Милый! Верно. А как сделать? Силой заставят. Сунут в руки винтовку, а позади пулемет поставят: иди, убивай! Куда уйдешь от этого окаянства? Некуда. Дьявол царствует над нами. В Писании действительно сказано: отойди от зла и сотвори благо, а ты научи, как отойти! Ты, Горленка, как вижу, много знаешь, вроде как учитель какой, а вот тоже не скажешь, как отойти…
– Можно отойти… Как-нибудь придумаем…
Пролежав два месяца в лазарете вместе с «красными», Паромов присмотрелся поближе к врагам и потерял прежнюю злобу к ним. Несчастные, сбитые с толку люди, часто хорошие и добрые, часто обманутые мечтатели, часто подневольные рабы с винтовками, частью фанатики и маньяки, прочитавшие только одну умную книгу о революции. Около них много всякого человеческого хлама и мусора жизни, из породы «паразитирующих»… А встречаются вот и такие, как Спиридоныч. Немного, но есть и такие праведники, заблудившиеся на путях исканий «правды Божией» на земле… А разве у них не то же? Разве уж так много у них таких «белых» Спиридонычей?.. Разве их не облепили кругом, как мухи – сахар, хлам и мусор революции? Разве у них нет фанатиков и мечтателей, тайно лелеющих надежды вернуть прошлое со всей его неправдой, против которой бились и в борьбе гибли тысячи лучших и честнейших русских людей? В этой братской резне погибают праведники, «Спиридонычи» обеих сторон, убивая друг друга. А правда жизни в стороне. Она не принимает ни тех, ни других и делает бессмысленным это взаимное истребление.
Страшный обман и самообман. Величайшая из дьявольских провокаций. И орудие ее – «Зверь из бездны», ненависть и злоба, ослепившие душу и разум человеческий, с одной стороны, творящие вот таких «Ермишек», а с другой, для них, «подпоручиков Изюмовых», сузившие смысл своего существования до одной маниакальной цели – убить как можно больше «красных», и ведущих учет своим убийствам в записной книжке. Иногда Паромову приходила такая мысль: если бы заключить перемирие на один только день и перемешать, как колоду карт, «красных» с «белыми», то на другой же день исчезла бы властвующая над толпой злоба, и ненависть и борьба сама собой прекратилась бы. Беспрерывно проливаемая кровь, как керосин для стихающего пожара. Надо положить конец этому кровавому пиршеству Дьявола. Но какими путями? Как укротить «Зверя из бездны»? Огромное большинство и здесь и там тайно думают, как и Спиридоныч, об отдыхе, о доме, о семье, о тихих радостях мирной жизни, все пресыщены кровью и слезами. Кажется порою, в тихие вечера и тихие беседы людей и здесь и там, что вот стоит только какому-то большому бесстрашному и сильному духом человеку появиться между ними и сказать: «Бросайте оружие убийства и расходитесь по домам!» – и все опомнятся, и кровавый туман рассеется, а люди начнут плакать от радости, что наконец-то явился пророк от Господа. Но нет его, пророка! Не является. А являются пророки «Зверя из бездны» и вливают непрестанную злобу в души человеческие. Но как же быть тем, кто прозрел? Как быть, если ты освободился от власти «Зверя» и не злобу, а тоску и сожаление рождает этот бал Сатаны? Во имя чего убивать? И кого убивать? Слепых и обманутых? Во имя родины? Но родина прежде всего в твоем народе, стало быть, во имя родины убивать родину? Во имя освобождения ее от губящих ее фанатиков? Но фанатики есть и здесь и там, и в этом братоубийстве они всегда Каины, а не Авели. Родина! Огромная, великая, необъятная родина… в руках кучки Каинов. Откуда их сила? Только в пробужденном ими «Звере», и пока мы во власти «Зверя», мы будем оставаться рабами нашей злобы и ненависти… Надо утишить бездны людского моря, надо убить самого «Зверя». Другого выхода и спасения нет. А его не убьешь ни пулями, ни снарядами. Он, как сказочный дракон: вместо каждой отрубленной головы у него вырастают две новых. Его убить можно только любовью. Вот такой любовью, которая, как неугасимая лампада перед образом, в душе сестры Вероники к несчастным обманутым людям… Не идея социализма или коммунизма, или монархизма, или какая-нибудь другая политическая или социально-экономическая идея выведет нас на путь к «Светлой Обители», а только освобождение душ от власти «Зверя». Только когда стихнут вихри над взбаламученным морем и «Зверь», вышедший из черных бездн, снова провалится в бездны морские, выглянет солнышко любви. И тогда исчезнут, как дым, как воск перед лицом огня, фанатики – отражение лика «Звериного», и «Волки в овечьих шкурах», пасущие стада озлобленных и слепых.
Такие мысли и раньше приходили в голову Паромова, а теперь, когда он пожил рядом с «врагами» во вражеской шкуре, стояли неотступно и преследовали душу, требуя действенного отклика. Но что же делать? Если ты здесь будешь проповедовать: «Долой Гражданскую войну!» – тебя расстреляют как самого злейшего врага; если будешь делать это там – сделают то же самое. Не проповедовать, а просто бежать от убийства – тогда и здесь, и там ты дезертир, подлежащий расстрелу или повешению.
Так в долгие зимние ночи, в стане врагов, созревала в душе Паромова идея «вооруженного нейтралитета» – вооруженное дезертирство…
Ну вот и пришел долгожданный день освобождения. Всю ночь Горленка с Спиридонычем глаз не смыкали: не спалось от волнения и радости. С солнышком поднялись и стали в дорогу снаряжаться. И собирать-то нечего, а все гребтилось. Не умели своей радости спрятать: все улыбались да посмеивались. А товарищи все растревожились, тоже рано, как куры с наседел, с коек поскакали, а зачем – и сами не знают. Лежали только те, кто совсем не вставал. По-разному в их душах это событие отзывается: одних раздражает, и они тихо ропщут:
– Воюй, воюй – все конца нет.
Другие посматривают с плохо скрытой завистью, иные с печалью в глазах: вспомнили родной дом, деревню, кто – мать, кто – жену, молча вздыхают. Некоторые зло подшучивают:
– Ты, Спиридоныч, молебствие бы в чулане отслужил!
– Он – ловкий: без попа вымолил, без всякого расходу. Все в чулане шептал: «Подай да подай, Господи!» – вот и добился…
– Надоел Богу-то. Поди, говорит, ко всем чертям.
Спиридоныч не сердился. Пускай! Когда он вышел из комнаты сестрицы – прощался, – на глазах его были слезы. Потом ходил Горленка: вышел тоже задумчивый и тоскливый. Точно радость в комнате у сестрицы оставили.
Провожать товарищи на крыльцо вышли. И сестрица между ними. Горленка все оглядывался, точно потерял там, позади, что-то. Спиридоныч торопился поскорее улицу миновать и в поле за городок выйти. Словно боялся, что его воротят.
Был уже март в начале. Весна тихонько посмеивалась. Снега спали, дороги раскисли. Капель тяжело падала с ледяных сосулек. Ручьи в разных местах бормотали. Солнышко спины пригревало. А ветерок еще холодноватый, сырой. Утро было радостное, все в сиянье, а в оставшейся позади церкви к утренним часам звонили – печально, кротко. И звоны в весенней радости пробуждали в душе Горленка далекие годы детства. Вышли уже и за город, а звоны все слышно. Спиридоныч снял шапку, перекрестился и сказал:
– Слава долготерпению Твоему, Господи!
Паромов шел медленной, тяжелой поступью и отставал от Спиридоныча.
– Ты что, товарищ, точно и уходить тебе неохота? Что ты запечалился так?
– А так, знаешь… Тоскливо что-то.
– Небось, сестрицу жалко?.. Да, брат, это верно: немного таких на свете.
Спиридоныч мудр был в простоте сердца своего. Угадал. Паромов думал о Веронике, и не было у него, как у спутника, радости в душе от весеннего сияния, дуновений, бульканья ручейков. Точно вся радость осталась позади, а впереди ничего не было. Как часто он раньше тосковал по ласкам Лады, лелеял мечту о свидании с ней и своим ребенком, а теперь точно и Лада с маленькой Евочкой остались тоже позади… Перед глазами все еще стояла палата, тихий вечер, полумрак, и в нем, как белый призрак, стройная женщина, то плавно идущая, то склонившаяся над изголовьем больного. Шаги становились замедленными, сомневающимися, и точно кто-то тайно спрашивал: «Зачем и куда ты идешь?» И в самом деле, куда и зачем? Ведь он не Горленка, а Паромов. Как былинному витязю, ему на пути встанет перепутье с двумя столбами, и на обоих надписи, грозящие смертью. Пойдешь в часть Горленки – тайна немедленно раскроется, и превратишься в «белого шпиона», расстреляют. Пойдешь по другому пути – превратишься в «красного шпиона», и тоже расстреляют… Вот если бы можно было не воевать, а устроиться при лазарете сторожем или служителем и исполнять приказы Вероники, он никуда не пошел бы. А потом, когда выпал бы благоприятный момент, они оба убежали бы… Куда?.. В Крым. Это единственный уголок, где есть покой и мир и где можно не убивать. Одна она не сумеет туда пробраться. Когда прощался, наскоро рассказал ей, какими путями пробираться туда. Эх, как она любит Бориса! Странная: сунула ему что-то в карман… Вспомнил про это и, вынув, стал развертывать бумагу: обручальное кольцо. Сказала: «Это Борису, если…» Хотела сказать «если жив», но испугалась и поправилась: «Если встретитесь». Едва ли. Либо я, либо он, а не отвертимся оба… Может быть, даже уже… он. А на том свете не женятся и не выходят замуж…
Паромов машинально надел кольцо на палец и, отбросив бумажку, задумчиво пропел из «Пиковой дамы»:
– «Сегодня ты, а завтра я».
– Что говоришь?
– Все, говорю, может быть…
– Ничего не известно… Ни-чего-го.
– Да, брат, быстры, как волны, дни нашей жизни.
– А я вот иду и думаю: что у меня там, дома, делается? Неизвестно. Ничего не известно. Может, и нет там никого. Может, и иду-то зря…
Дошли до станции и два дня воевали, чтобы попасть в теплушку. Попали наконец и поехали.
– Никогда раньше и скотину так не возили, – сердился Спиридоныч.
Если бы Данте видел внутренность этой теплушки и то, что в ней творилось, он непременно взял бы эту картину для изображения адских мук, изобретенных для грешников и грешниц Дьяволом. Ком сплетшихся червей, грязных и вонючих, совершающих явно все, что раньше люди делали в уединении. И когда Паромов вспоминал невесту Бориса, она начинала ему казаться не живым настоящим человеком, а героиней из сказок Шехерезады или из выдумок необузданного фантазера Ариосто. Он представлял себе жениха с невестой в этой теплушке и начинал хохотать…
– Что тебе весело? Что людям спать не даешь? Ночь, а ты…
– Посмотри вон!..
Подслеповатый фонарь подсматривал, что делают черви. Храпели, пыхтели, лежа, как дрова, друг на друге. Сверкали нагие толстые ноги в человеческой куче меж детских голов и тоненьких ручек, и солдат с бабой пыхтели, совершая без всякого стеснения некоторое физиологическое отправление. А кто-то из темноты, посмеиваясь, говорил:
– Недаром он ее посадил в теплушку-то!.. Уговор лучше денег.
Другие электронные книги автора Евгений Николаевич Чириков
Другие аудиокниги автора Евгений Николаевич Чириков
Юность




 0
0
Зверь из бездны




 4.5
4.5