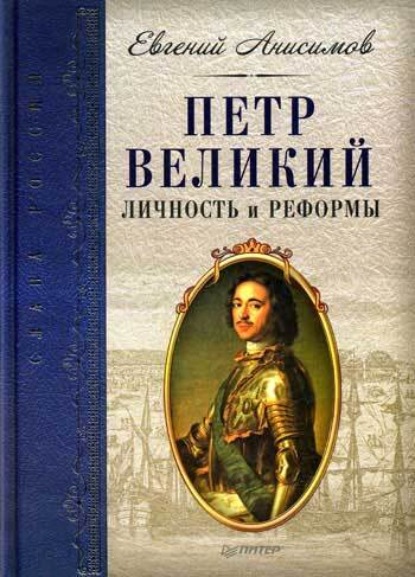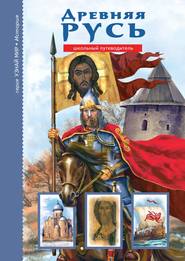По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петр Великий: личность и реформы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Воспевание личности царя-реформатора, подчеркивание его особых личных достоинств – характернейшая черта публицистики петровского времени. Она неизбежно влекла за собой создание подлинного культа личности преобразователя России, якобы только ему обязанной всем достигнутым, возведенной только его усилиями на недосягаемую прежде высоту. Как писал современник Петра Иван Неплюев, «на что в России ни взгляни, все его началом имеем, и чтобы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут».
Петровские публицисты (Феофан, Шафиров) подчеркнуто прославляли личные достоинства Петра, особо отмечая, «что не обрящется не токмо в нынешних нашей памяти веках, но ниже в гисториях прежних веков, его величеству равного, в котором бы едином толико монарху надлежащих добродетелей собрано было и которой бы не во многие лета в своем государстве, толь многие славные дела, не токмо начал, но и от большей части в действо произвел и народ свой, который в таких делах до его государствования отчасти мало, отчасти же и ничего не был искусен, не токмо обучил, но и прославил». Уже при жизни Петра сравнивали с выдающимися деятелями русской и мировой истории: Александром Невским, Александром Македонским, Цезарем и т. д.
Мысли идеологов обращаются к опыту Римской империи. В день празднования Ништадтского мира 30 октября 1721 года Сенат подает прошение, в котором подчеркивает особую роль царя в «произведении» России и просит принять новый, невиданный в России титул: «Всемилостивейший государь! Понеже труды Вашего Величества в произведении нашего отечества и подданного вашего всероссийского народа всему свету известны, того ради, хотя мы ведаем, что Ваше величество, яко самодержцу, вся [власть] принадлежит, однакож в показание и знак нашего истинного признания, что весь подданной ваш народ ничем иным, кроме единых ваших неусыпных попечений и трудов об оном, и со ущербом дражайшего здравия вашего положенных, на такую степень благополучия и славы произведен есть, помыслили мы, с прикладу древних, особливо ж римского и греческого народов, дерзновение восприять, в день торжества и объявления заключенного оными Вашего величества трудами всей России толь славного и благополучного мира, по прочтении трактата онаго в церкви, по нашем всеподданнейшем благодарении за исходотайствование оного мира, принесть свое прошение к Вам публично, дабы изволили принять от нас, яко от верных своих подданных, во благодарение титул Отца Отечествия, Императора Всероссийского, Петра Великого, как обыкновению от Римского Сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статуах для памяти в вечные годы подписываны».
Неизвестный гравер. Первый Зимний дворец Петра I. 1716—1717 гг.
Обращение к опыту Рима здесь не случайно. Ориентация на императорский Рим, на Рим – столицу мира вообще, прослеживается в символике императорской России, да и на более раннем этапе. Это проявляется, как отмечал в своих работах Г. В. Виллинбахов, и в названии новой столицы по имени святого Петра – Санкт-Петербург, и в названии патронального собора, и в гербе города, повторяющем перекрещенные ключи с государственного флага Ватикана.
Важно при этом заметить, что в соответствии с принципами харизмы титул «Отца Отечества» был привилегией только Петра, не являясь обязательным атрибутом российских императоров. И хотя впоследствии преемники первого императора восхвалялись за несуществующие личные достоинства и «щедроты» к российскому народу, официально они его не имели. Правда, уподобляясь своему великому отцу, Елизавета называлась «Матерью Отечествия», но никаких возвышающих душу образов и сравнений у современников ее это не вызывало.
Реформы, тяжелый труд в мирное и военное время воспринимались Петром как постоянная учеба, школа, в которой русский народ постигал знания, неведомые ему ранее. В манифесте 1702 года, которым иностранные специалисты приглашались приехать в Россию, отмечалось, что одна из важнейших задач самодержавия – «к вящему обучению народа доходить тако учредити, дабы наши подданные коль долее, толь веще ко всякому обществу и обходительству со всеми иными христианскими и во нравех обученными народы удобны сочинены быть могли».
Северная война тоже устойчиво связывалась с понятием учения. Получив известие о заключении Ништадтского мира, Петр воспринял это событие как получение аттестата об окончании (правда, с опозданием) своеобразной школы. В письме В. В. Долгорукому по поводу заключения мира он пишет: «Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно, но наша школа троекратное время была (21 год), однакож, слава богу, так хорошо окончилась, как лучше быть невозможно». Известно и его выражение «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую». Действительно, концепция жизни – учебы, обучения – типична для рационалистического восприятия мира, типична она и для Петра, человека необычайно любознательного, активного и способного. Но в школе, в которую он превратил страну, место Учителя, знающего, что нужно ученикам, он отводил себе. В обстановке бурных преобразований, когда цели их, кроме самых общих, не были отчетливо видны и понятны всем и встречали открытое, а чаще скрытое сопротивление, в сознании Петра укреплялась идея разумного Учителя, с которым он идентифицировал себя, и неразумных, часто упорствующих в своей косности и лени детей-подданных, которых можно приучить к учению и добрым делам только с помощью насилия, из-под палки, ибо другого они не понимают. Об этом Петр говорил не раз. Отвечая голштинскому герцогу, восхищавшемуся токарными «работами» Петра, царь, по словам Берхгольца, «уверял, что кабинетные его занятия – игрушка по сравнению с трудами, понесенными им в первые годы при введении регулярного войска и особенно при заведении флота, что тогда он должен был разом знакомить своих подданных, которые, по его словам, прежде предавались, как известно, праздности, и с наукою, и с храбростью, и с верностью, и с честью, очень мало им знакомою».
Еще более откровенно Петр выразил свои мысли в указе Мануфактур-коллегии 5 ноября 1723 года по поводу трудностей в распространении мануфактурного производства в стране: «Что мало охотников и то правда, понеже наш народ, яко дети неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел не все ль неволею сделано, и уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел».
Мысль о насилии, принуждении как универсальном способе решения внутренних проблем не нова в истории России. Но Петр, пожалуй, первый, кто с такой последовательностью, систематичностью использовал насилие для достижения высших государственных целей, как он их понимал.
Среди новелл, составляющих воспоминания Андрея Нартова, есть одна, привлекающая особое внимание. Нартов передает целостную концепцию власти самодержца, как ее понимал царь (естественно – в передаче Нартова): «Петр Великий, беседуя в токарной с Брюсом и Остерманом, с жаром говорил им: „Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами, как невольниками. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Английская вольность здесь не у места, как к стене горох.
Надлежит знать народ, как оным управлять. Усматривающий вред и придумывающий добро говорить может прямо мне без боязни. Свидетели тому – вы. Полезное слушать рад я и от последняго подданнаго; руки, ноги, язык не скованы. Доступ до меня свободен – лишь бы не отягощали меня только бездельством и не отнимали бы времени напрасно, которого всякий час мне дорог. Недоброходы и злодеи мои и отечеству не могут быть довольны; узда им – закон. Тот свободен, кто не творит зла и послушен добру“».
Хотя «Анекдоты» Нартова содержат много недостоверного, но этот заслуживает доверия, ибо подтверждается другими документами и отражает умонастроение Петра. Идея патернализма определяет все: он, Петр, единственный, кто знает, что нужно народу, и его указы, как содержащие лишь безусловное добро, обязательны к исполнению всеми подданными. Недовольные законами, изданными царем, – «злодеи мои и отечеству». Примечательно и убеждение царя, что в России, в отличие от Англии, такой насильственный путь приведения страны к добру – единственный. Причем этот гимн режиму единовластия (а в сущности – завуалированной тирании, при которой закон имеет единственным источником волю властителя) обосновывается все теми же перечисленными выше обязанностями монарха, призванного Богом к власти, а значит, имеющего право повелевать и знающего, в силу Божественной воли, что есть благо.
Как записал в свой дневник Берхгольц, его повелитель, герцог Карл-Фридрих, решил угодить Петру в дни торжеств по поводу Ништадтского мира и построил триумфальную арку, украсив ее с правой стороны изображением «Ивана Васильевича I (Ивана IV. – Е. А.) в старинной короне, положившего основание нынешнему величию России, с надписью „Incepit“ (начал). С левой же стороны, в такую же величину и в новой императорской короне изображен был теперешний император, возведший Россию на верх славы, с надписью „Perfecit“ (усовершенствовал)». Другой придворный голштинского герцога, граф Брюммер (будущий воспитатель Петра III), рассказывал Штеллину о весьма положительной реакции царя на эту аналогию и историческую связь. Петр якобы сказал: «Этот государь (указав на царя Ивана Васильевича) – мой предшественник и пример. Я всегда принимал его за образец в благоразумии и храбрости, но не мог еще с ним сравняться. Только глупцы, которые не знают обстоятельства в его времени, свойства его народа и великих его заслуг, называют его тираном». Думаю, что вряд ли мемуаристы далеко уклоняются от истины, касаясь политических симпатий царя. Они очевидны и вытекают из его философии власти. То соображение, что Петр мало знал о своем предшественнике – Иване Грозном – и потому восхищался им, значения в данном случае не имеет: ведь нам известно, что глубокие знания о кровавой тирании Ивана, накопленные поколениями историков, не смогли тем не менее поколебать устойчивых политических симпатий к средневековому тирану Сталину – этому «душегубцу и мужикоборцу» новейших времен.
Концепция принуждения основывалась не только на вполне традиционной идее патернализма, но, вероятно, и на особенностях личности Петра. В его отношении к людям было много того, что можно назвать жестокостью, нетерпимостью, душевной глухотой. Человек с его слабостями, проблемами, личностью, индивидуальностью как бы не существовал для него. Создается впечатление, что на людей он часто смотрел как на орудия, материал для создания того, что было им задумано для блага государства, империи. Думаю, что Петру должны были быть близки мысли Ивана Грозного, корившего Курбского и ему подобных за непослушание на том основании, что Бог подданных ему «дал в роб Ђоту». Конечно, следует отметить, что для Ивана понятие «робота» идентично понятию «рабство», а «работные», все без изъятия, – отданные в рабство подданные. Но вместе с тем в отношении Петра и Ивана к подданным было много общего. Довольно странная шутка и сомнительная аллегория встречаются в письме царя из-под Шлиссельбурга от 19 апреля 1703 года Т. Н. Стрешневу, ведавшему набором солдат в армию: «Как ваша милость сие получишь, изволь не помедля еще солдат сверх кои отпущены, тысячи три или больше прислать в добавку, понеже при сей школе много учеников умирает, того для не добро голову чесать, когда зубы выломаны из гребня».
Очень выразительным кажется и письмо в Петрозаводск по поводу болезни личного врача Петра доктора Арескина, который многие годы входил в ближайшее окружение царя. 2 декабря 1718 года Петр писал В. Геннину – местному начальнику: «Господин полковник. Письмо твое ноября от 25-го дня до нас дошло, в котором пишешь, что доктор Арескин уже кончаеца, о котором мы зело сожалеем, и ежели (о чем боже сохрани) жизнь ево уже прекратилась, то объяви доктору Поликалу, дабы ево распорол и осмотрил внутренне члены, какою он болезнию был болен и не дано ль ему какой отравы. И осмотря, к нам пишите. А потом и тело ево отправьте сюды, в Санкт-Питербурх. Петр». Поразительная предусмотрительность царя обусловлена тем, что он заподозрил отравление Арескина, сторонника Якова Стюарта – претендента на английский престол, склонявшего Петра поддержать «якобитов». Вполне допустимо, что Петр подумал о заговоре, в чем-то угрожавшем ему. Но в данном случае наше внимание обращает на себя холодный прагматизм, жутковатая деловитость в отношении достаточно близкого ему человека. С такой же деловитостью в 1709 году он поучал Апраксина, как допрашивать больного государственного преступника: «О протопопе Троицком извольте учинить по своему рассмотрению. Ежели будет вам время, то извольте ево взять к Москве и, хотя за болезнию ево пытать нельзя, однакож выпытывать возможно и не поднимаючи, а имянно, чтоб бить, разложа плетьми или батогами и при том спрашивать». Было бы неверно думать о некоей патологии царя – Петр не проявлял палаческих склонностей. Он жил в жестокий век, дети которого бежали, как на праздник, к эшафоту, и войска с трудом сдерживали толпу, стремившуюся поближе насладиться зрелищем мучительной казни очередного преступника. Да, век был суров, но, как справедливо сказал поэт А. Кушнер, «что ни век, то век железный», и нельзя не заметить, что в отношении Петра к людям многое шло от самой личности, от свойств души этого сурового, жестокого и бесцеремонного к окружающим человека. Мемуаристы отмечают, как, например, сидя рядом с бургомистром вольного города Гданьска на торжественном богослужении, данном в честь высокого гостя в центральном соборе, Петр вдруг содрал с головы бургомистра парик и нахлобучил его на свою голову. После окончания службы он с благодарностью вернул парик ошеломленному хозяину. Все было предельно просто: оказывается, во время мессы царю стало холодно от гулявших по собору сквозняков. И он сделал то же, что не раз проделывал со своими спутниками и слугами.
Чтение указа об основании Санкт-Петербурга Петром Великим в 1703 г. Неизвестный мастер. Литография по рисунку П. Иванова.
Несомненно, Петр был человеком сильных чувств и в их проявлениях резок, порывист. Эти чувства подчас охватывали его целиком. Даже его деловые письма иногда передают эту страстность. Вот только один пример: 6 февраля 1710 года Петр получил долго ожидаемое подтверждение из Стамбула о том, что турки отменили военные приготовления против России и тем самым развязали ему руки для действий в Прибалтике. 7 февраля Петр пишет А. Кикину: «Вчерашнего дни от давного времени с великою жаждою ожидаемого курьера из Константинополя получили… и теперь уже в одну сторону очи и мысль имеем». И таких экспрессивных, выразительных писем в эпистолярном наследии Петра немало.
После сказанного нетрудно понять, каким страшным, не знавшим границ мог быть гнев Петра. Примечательно, что в состоянии сильного раздражения у него вдруг начинался припадок, приводивший окружающих в состояние ужаса.
Вот как описывает такой случай Ю. Юль, вместе с канцлером Головкиным участвовавший в январе 1710 года в торжественной церемонии вступления русской армии – победительницы при Полтаве – в Москву: «Мы проехали таким образом порядочный конец, как вдруг мимо нас во весь опор проскакал царь. Лицо его было чрезвычайно бледно, искажено и уродливо. Он делал различные страшные гримасы и движения головою, ртом, руками, плечами, кистями рук и ступнями. Тут мы оба вышли из кареты и увидали, как царь, подъехав к одному простому солдату, несшему шведское знамя, стал безжалостно рубить его обнаженным мечом и осыпать ударами, быть может за то, что тот шел не так, как хотел царь. Затем царь остановил свою лошадь, но все продолжал делать описанные страшные гримасы, вертел головою, кривил рот, заводил глаза, подергивал руками и плечами и дрыгал взад и вперед ногами. Все окружавшие его в ту минуту важнейшие сановники были испуганы этим, и никто не смел к нему подойти, так как все видели, что царь сердит и чем-то раздосадован… Описанные выше страшные движения и жесты царя доктора зовут конвульсиями. Они случаются с ним часто, преимущественно, когда он сердит, получил дурные вести, вообще, когда чем-нибудь недоволен или погружен в глубокую задумчивость. Нередко подобные подергивания в мускулах рук находят на него за столом, когда он ест, и если при этом он держит в руках вилку и ножик, то тычет ими по направлению к своему лицу, вселяя в присутствующих страх, как бы он не порезал или не поколол себе лица. Говорят, что судороги происходят у него от яда, который он будто бы проглотил когда-то, однако вернее и справедливее предположить, что причиной их является болезнь и острота крови и что эти ужасные на вид движения – топание, дрыгание и кивание – вызываются известным припадком сродни апоплексическому удару».
Отметим для полноты картины следующее. Мартов, хорошо знавший быт Петра, дает другую версию причин конвульсивных движений, поражавших время от времени царя, а именно – тяжелые детские воспоминания об ужасе стрелецкого бунта 15 мая 1682 года, когда десятилетний мальчик стал свидетелем кровавой расправы с близкими ему людьми. Нартов записал: «О бунтах стрелецких некогда промолвил государь: „От воспоминания бунтовавших стрельцов, гидр отечества, все уды (члены. – Е. А.) во мне трепещут, помысля о том, заснуть не могу. Такова-то была сия кровожаждущая саранча!“ Государь по истине имел иногда в нощное время такие конвульсии в теле, что клал с собою деньщика Мурзина, за плечи которого держась, засыпал, что я сам видел. Днем же нередко вскидывал голову кверху…»
Случай расправы с солдатом в 1710 году достаточно типичен. Спустя десять лет, в 1720 году, на очередном параде, другой современник, В. А. Нащокин, наблюдал почти то же самое: «Когда оных пленных вели и… сам государь, будучи в мундире гвардии, учреждал конвой и как итить с пленными до крепости, а лейб-гвардии Семеновского полка капитан старшей Петр Иванов сын Вельяминов в то учреждение своим представлением вмешался, котораго государь при всей той оказии бил тростью». Вряд ли нужно было бы фокусировать внимание читателя на этих неприглядных сценах расправы с людьми, которые не могут ответить, если бы палка не была своеобразным символом системы насилия, культивируемого Петром. Вероятно, об успехах «дубинной» педагогики говорить не приходится. Нартов вспоминал размышления царя на этот счет: «Государь, точа человеческую фигуру в токарной махине и будучи весел, что работа удачно идет, спросил механика Нартова: „Каково точу я?“ И когда Нартов отвечал: „Хорошо“, то сказал его величество (со вздохом, добавили бы мы на месте Нартова. – Е.А): „Таково-то, Андрей, кости точу я долотом изрядно, а не могу обточить дубиною упрямцов“». В другом случае «государь, – пишет Нартов, – возвратясь из Сената и, видя встречающую и прыгающую около себя собачку, сел и гладил ее, а при том говорил: „Когда б послушны были в добре так упрямцы, как послушна мне Лизета (любимая его собачка), тогда не гладил бы я их дубиною. Моя собачка слушает без побой, знать в ней более догадки, а в тех заматерелое упрямство“».
Письма Петра к чиновникам, командирам полны требований проявить дисциплину, инициативу, быстроту – то, что в данный момент было нужно для пользы дела. Почти каждое такое требование сопровождалось угрозой насилия, расправы. Приведу примеры. Вот типичный указ о строительстве судов для армии 30 мая 1722 года: «Смотреть того, чтоб делали как суды, так и такелаж не образом только, но делом, чтоб были крепки и добрым мастерством и сие не токмо волею, но и неволею делать, а ослушников штрафовать сперва деньгами, а в другой раз и наказанием». В письме А. Меншикову от 6 февраля 1711 года он, недовольный и опечаленный волокитой губернаторов, обещал при этом утолить свои печали привычным для себя способом: «А доныне Бог ведает, в какой печали пребываю, ибо губернаторы зело раку последуют в происхождении своих дел, которым последний срок в четверг на первой неделе, а потом буду не словом, но руками с оными поступать».
Часто встречается в указах Петра своеобразная «формула угрозы»: «…тогда не мините не только жестокий ответ дать, но и истязаны будете». Весьма суровые указы Петр посылал сенаторам, не особенно церемонясь с высшими сановниками России. И они знали, что угрозы эти не останутся на бумаге. Примечателен в этом смысле указ Сенату от 2 июля 1713 года, в котором – весь Петр: «Господа Сенат! Понеже уведомлены мы, что вы по доносам фискальским ни единого главного дела не вершили, но все проманеваете время до времени, забывая бога и души свои, того ради сие последнее, о сем пишу к Вам. Ежели пяти или шти дел главных, буде более не успеете (о которых вам будут фискалы доносить) до ноября первого числа не вершите и преступником (которые для своих польз интерес государственной портят) не учините смертную казнь, не щадя никово в том и ежели инако в том поступите, то вам сие будет. Петр».
Многочисленные призывы и угрозы не могли заставить людей делать так, как этого требовал Петр: точно, быстро, инициативно. Мало кто из его сподвижников чувствовал себя уверенно, когда приходилось действовать без указки царя, самостоятельно, на свой страх и риск. Это было неизбежно, ибо Петр, по точным словам В. О. Ключевского, «надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная». Характерным для многих петровских сподвижников было ощущение беспомощности, отчаяния, когда они не имели точных распоряжений царя или, сгибаясь под страшным грузом ответственности, не получали его одобрения. Обращает на себя внимание письмо президента Адмиралтейской коллегии Ф. М. Апраксина от 31 декабря 1716 года к секретарю Петра Макарову «В надеянии вашем прошу, для Бога, не оставь нас безизвестна, извольте ль быть к нам, истинно во всех делах как слепые бродим и не знаем, что делать, стали везде великая растройка, а где прибегнуть и что впредь делать не знаем, денег ниоткуда не везут, все дела становятся». И это пишет один из влиятельнейших людей того времени, человек, облеченный доверием грозного царя!
Читая такие письма, Петр имел все основания полагать, что без него все дела встанут и что он единственный, кто знает, как и что нужно делать. Вместе с этим чувством исключительности Петром, далеким от самолюбования и пустого тщеславия, должно было владеть другое чувство – чувство одиночества, сознание того, что его боятся, но не понимают, делают вид, что трудятся, но ждут, когда он отвернется, умрет, наконец. Это было неизбежным и трагическим следствием всякой авторитарности, насилия, естественным образом порождавших леность раба, воровство чиновника и прочие пороки общества.
К концу жизни, лишившись сына Петра – наследника и надежды, – царь мог воскликнуть, как некогда в письме уничтоженному им же царевичу Алексею: «…ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеписанное с помощию вышнего насаждение и уже некоторое и возращенное оставлю?» Да, он был смертным человеком, и судьбе было угодно обречь его на тяжкую смерть. В ней было много символичного и неясного; как и в судьбе России, которой предстояло жить без Петра… Однако обратимся сначала к событиям Северной войны, к началу той жестокой школы жизни, пройдя которую, молодой русский царь стал императором Петром Великим.
«Нарвская конфузия»
С бастионов шведской крепости Нарвы 9 сентября 1700 года можно было наблюдать движущиеся с северо-востока войска и обозы – это почти 40-тысячная армия Петра приближалась к шведской крепости на пограничной с Россией реке Нарове. Так для России началась Великая Северная война, и никто тогда не мог предположить, что она продлится более двух десятилетий (до 1721 года), что война эта кончится лишь тогда, когда родится, подрастет и даже повзрослеет по обе стороны Балтики новое поколение, для которого память о «злосчастной» Нарве станет преданием.
Ну а в те осенние дни вряд ли Петр мог предположить, что Нарва 1700 года будет рубежом и в его жизни, и в жизни огромной страны, повелителем которой он стал. Вместе со своими военачальниками он проводил рекогносцировку местности, намечая, где строить палисады (тыны), возводить валы, чтобы в осажденную твердыню не проскочила и мышь. Уверенно и спокойно работали люди: готовилась длительная осада этой мощной крепости – ключевого пункта обороны на стыке двух заморских провинций Шведского королевства – Ингрии и Эстляндии. Молодой царь, руководивший работами, не был новичком в этом деле, и осада Нарвы после Азова казалась ему, вероятно, привычным делом, успех которого очевиден. Для такой уверенности были все основания: Петр уже прошел, и вполне достойно, боевую школу на далеких от Нарвы южных рубежах – там, где судьбой было определено ему начать свою удивительную «карьеру».
Конечно, он ничего не знал о военном гении молодого шведского короля Карла XII, явно недооценивал могущество Шведского королевства, с которым предстояла такая долгая война. Впрочем, состояние войны станет привычным для Петра: из 52 лет его жизни Россия воевала 37 лет!
В 1700 году только что закончилась тянувшаяся 14 лет война с Турцией и ее вассалом – Крымским ханством. Конечно, Русско-турецкая война 1686—1700 годов не была столь грандиозна, как Северная, но и на ней тоже лилась кровь, погибали тысячи людей. В определенном смысле война с Турцией и Крымом была для России вынужденной, вызванной не столько острыми внутренними проблемами, сколько общей международной ситуацией, той системой международных отношений, в которую была включена Россия.
В 70-80-х годах XVII века натиск османской Турции на земли Австрии (Империи), Речи Посполитой и России значительно усилился. Сражения русских и украинских войск с турками под Чигирином в 1677—1679 годах не дали решительного перевеса ни одной из сторон, но все же сдержали турецкую экспансию на север. Австрия и Польша находились в более опасном положении: турки стояли на южной границе Речи Посполитой – в Каменце-Подольском; столицу же Империи спас от османов только подвиг австро-польского войска Яна Собеского.
Заинтересованная в активизации антитурецких сил Австрия добивалась примирения Речи Посполитой и России – заклятых врагов, которые, закончив в 1618 году тяжелейший конфликт, еще дважды – в 1632—1634 и 1654—1666 годах – его возобновляли. Эти войны были малоуспешными для России, и все территориальные потери времен Смуты не возмещены. Поэтому, соглашаясь на мировую с Речью, русская дипломатия требовала возвращения Смоленской земли и признания присоединения к России Левобережной Украины с Киевом, за что русская сторона обещала выплатить 146 тысяч рублей и начать войну с Турцией. 6 мая 1686 года на этих условиях и был подписан «вечный» мир с Польшей. Он подвел итог длительному периоду ожесточенной борьбы поляков и русских и обозначил тот краткий миг равновесия сил в русско-польских отношениях, после которого чаша России начала все сильнее и сильнее перевешивать. Но тогда этого отмеченного судьбой перелома никто не почувствовал, и естественным следствием мира с Польшей стала война с Турцией и Крымом, избежать которой Россия уже не могла.
Взятие Нарвы в 1704 г. Картина профессора Коцебу. Гравюра Паннемакера.
Русские войска под командованием В. В. Голицына дважды, в 1687 и 1689 годах, совершали походы против Крымского ханства, но оба оказались неудачными и славы русскому оружию не принесли. Выжженные степи, бездарное командование, умелые действия кочевников – эти и многие другие обстоятельства сделали отступление из-под невзятых укреплений Перекопа подлинным бегством, сопровождаемым огромными потерями. Но вопреки очевидности правительство Софьи отказывалось признать неудачи в войне с Крымом. Указ 1689 года расценивал второй Крымский поход как несомненный успех войск Василия Голицына: «И, видя на себя хан крымский вас бояр и воевод, и полков ваших всяких их великих государей крепкое и мужественное и храброе наступление, пришел в страх и ужас…» В. В. Голицын получил за мнимую победу «кубок золоченой с кровлею (крышкой. – Е. А.), кафтан золотный на соболях, денежные придачи 300 рублев, да в вотчину Суздальского уезда – село Решму».
Однако не прошло и нескольких недель, как поход Голицына – любимца Софьи – получил совершенно другую оценку. Она была дана в указе, который исходил из окружения нового властителя России – 17-летнего Петра, отнявшего в августе 1689 года власть у Софьи: «Да он же князь Василей 197 году (1689 г. – Е. А.) посылан с их великих государей ратными людьми для промыслу на крымские юрты и, пришед к Перекопу, промыслу никакова не учинил, и, постояв самое малое время, отступил и тем своим нерадением их великих государей казне учинил великие убытки, а государству разорение, и людем великую тягость».
Тем не менее новое правительство молодого царя унаследовало старые внешнеполитические проблемы. Надо сказать, что оно не спешило их решать: ситуация в Европе оставалась запутанной, Турция и Крым на какое-то время прекратили военные действия, масса внутренних более важных тогда для молодого царя дел долгое время занимала его ум, пока наконец в 1695 году, подчиняясь требованиям союзников, не было решено возобновить войну. И хотя крымское направление похода официально оставалось главным, основной удар был нанесен непосредственно по владениям Турции в Северном Причерноморье – в устье Днепра и в устье Дона.
Петр принял такое решение, конечно, в первую очередь потому, что не хотел повторять судьбу своего незадачливого предшественника – Василия Голицына. Но все же главным в замысле нового похода было стремление установить контроль над устьями Днепра и Дона, что позволяло закрепиться на побережьях Черного и Азовского морей, являвшихся тогда внутренними турецкими морями, и одновременно контролировать течение этих рек. Именно такое направление стратегических ударов стало основным в длительных русско-турецких войнах за Северное Причерноморье в послепетровские времена. Набег же на Крым мог принести лишь временные выгоды. Поэтому главной целью первого Азовского похода 1695 года стали турецкие крепости Кази-Керман и Арслан-Ордек в устье Днепра и крепость Азов в устье Дона. Основной удар Петр решил нанести по Азову, поскольку к осадному корпусу было легче доставлять войска и припасы из контролируемых Россией верховьев Дона и Воронежа.
Осада Азова началась в июле 1695 года и продолжалась почти четыре месяца, но без успеха. Тому было много причин. Тут и слабая подготовка войск, отсутствие единоначалия, нехватка хороших инженеров, способных грамотно провести осадные и предштурмовые работы, и какая-то общая неразбериха, суета, неоправданные жертвы. Чего стоят только взрыв мин, который нанес урон не укреплениям Азова, а самим осаждавшим, и два неудачных штурма, когда активность одних штурмующих отрядов сочеталась с нерешительностью и пассивностью других, что привело к огромным потерям. Русские войска не смогли также воспрепятствовать и свободному подвозу в крепость подкреплений с моря. В итоге пришлось дать приказ об отступлении. Началось оно поздней осенью, проходило по голой степи, стужа и голод косили людей и животных, так что вернувшееся в Россию воинство Петра мало чем отличалось от того, что пришло несколькими годами раньше с Василием Голицыным. Период между первым и вторым походами Петра на Азов был весьма важным для будущего. Он показал, что у молодого царя, который в первом походе лишь наблюдал за бездарными действиями генералов, есть воля, ум, талант государственного деятеля, желание изменить неблагоприятную ситуацию и заставить во имя этого напряженно работать тысячи и тысячи людей. 30 ноября 1695 года, только что прибыв в Москву, Петр написал архангелогородскому воеводе Ф. М. Апраксину: «По возвращении от невзятия Азова, с консилии господ генералов, указано мне к будущей войне делать галеи (галеры. – Е. А.), для чего удобно, мню, быть шхиптимерманом (корабельным плотником. – Е. А.), всем от вас сюды, понеже они сие зимнее время туне будут препровождать, а здесь могут тем временем великую пользу к войне учинить…»
Не прошло и четырех месяцев, как Петр писал 23 марта 1696 года князю Федору Юрьевичу Ромодановскому: «А о здешнем возвещаю, что галеры и иныя суда, по указу вашему (так. – Е.А.), строятся, да ныне же зачали делать на прошлых неделях два галиаса».
Эти два письма свидетельствуют: Россия начала строить военно-морской флот. За короткое время тысячи крестьян были согнаны в дремучие тогда воронежские леса и принялись валить строевой лес, затем свозить и сплавлять его по первой воде в Воронеж, где на основанной Петром верфи под руководством английских и голландских мастеров закипела работа. И далее две поразительные даты, разделенные лишь двумя месяцами: 2 апреля 1696 года, когда первая галера сошла со стапеля в воды реки Воронеж, и 27 мая того же года, когда Азовское море увидело русский военно-морской флаг – флот из 22 галер, сопровождаемых массой мелких судов, впервые вышел в открытое море. Все это было похоже на волшебную сказку, особенно если вспомнить время, когда это произошло. Мечта Петра о море начала сбываться.
Но затем начались будни, причем довольно суровые. Молодой русский флот, плохо укомплектованный и немобильный, столкновения с турецким явно избегал, так что попытки турок доставить припасы и людей в Азов были решительно пресечены не галерами, а главным образом казаками, которые на своих легких лодках захватили несколько транспортных судов и отогнали крупные турецкие корабли в открытое море. В целом же осада, благодаря присутствию морских сил, пошла успешнее, чем в прошлом году. Петр удачно блокировал устье Дона: на обоих берегах были построены форты, вооруженные пушками, – своеобразный «замок» на устье, делавший невозможным беспрепятственный вход вражеских судов в Дон к осажденному Азову.
Высадившаяся тем временем с кораблей армия под командой «генералисима» А. С. Шеина вновь, как и в прошлом году, заняла траншеи и апроши (рвы, подходы), которые так и не были разрушены турками, легкомысленно полагавшими, что русский царь надолго запомнит «невзятие Азова» и забудет дорогу к его стенам.
Осада крепости проходила по старому образцу, причем минные подкопы делать боялись, как и пытать судьбу на штурмовых лестницах. Была начата гигантская, но бессмысленная с военной точки зрения работа – возведение вокруг крепости вала такой величины, чтобы он оказался выше турецкого крепостного вала и засыпал бы ров крепости. Этот крайне архаичный для XVIII века вид осады напоминал, как писал историк Н. Устрялов, летописную осаду князем Владимиром Херсонеса в X веке. Неизвестно, сколько бы тянулась осада, если бы не новая, более умелая расстановка орудий, прицельным огнем разрушавших турецкие укрепления, «промысел» запорожцев и донцов, захвативших вал крепости, наконец, эффективная блокада Азова с моря. Видя все это, турки начали переговоры о сдаче, и в середине июля 1696 года русские войска вошли в Азов.
Это событие повлекло за собой два следствия: одно – дипломатическое, другое – стратегическое. Азовский успех дал России право громко требовать от своих союзников соответственных усилий в войне с Турцией. Обращаясь к одному из союзников – дожу Венеции – Петр в грамоте от 7 августа 1696 года призывал: «…дабы и ваше светлейшество против того ж общаго неприятеля, в нынешнее согласное и удобное время, войска свои сухим и водяным путем в их бусурманские жилища посылали, и, в надежде той же божией поспешествующей силы, с нашим царским величеством и с протчими союзниками нашими обще воевали того неприятеля крепчайшим усердием, чтоб оный неприятель, в поврежденней уже своей будучи бусурманской силе и наипаче в таком своем изнеможении против общих наших оружей християнских, отовсюду изнурен и отягощен и в попрание могл быть приведен».
Вряд ли призывы Петра к малоактивным тогда союзникам были только чистой риторикой, желанием поднять низкий международный престиж России. Взятие Азова не было просто «поиском» – походом с возвращением, подобно Крымским походам. Одно из первых после взятия Азова писем в Москву Петр заканчивает словами: «Писано в завоеванном нашем граде Азове», подчеркивая тем самым, что намерен укрепиться у моря навсегда. Более того, Петр рассматривал взятие Азова и закрепление там лишь как начало реализации долговременных стратегических планов, имевших глубокую политическую и военную перспективу. Надо сказать, что длямногих и в России, и за рубежом это, по-видимому, оказалось совершенно неожиданным.
Сразу же после того, как над бастионами крепости был поднят российский флаг, Петр начал реконструировать ее согласно новейшим достижениям фортификационной науки. Его указания выполняли специально приглашенные для этого иностранцы – военные инженеры. День и ночь армия-победительница восстанавливала и достраивала азовские укрепления. Примечательным было и освящение города, а также двух православных церквей, переделанных из мечетей. Это должно было символизировать намерение России надолго остатьсяв Приазовье. Сам же Петр с галерным флотом отправилсявдоль морского побережьяна поиски удобной гавани. Окрестности мыса Таган-Рог показались царю и его свите самыми подходящими. Здесь было задумано заложить крепость, город и гавань Таганрог – решение необычайной важности, ибо это означало, что построенные в Воронеже корабли понадобятсяПетру не только длядоставки войск к Азову, но и в целом дляобороны Приазовья, ради чего Петр и начал создавать базу военно-морских сил на Азовском море.
Серьезность этих невиданных и грандиозных длятогдашней России планов Петр подтвердил сразу же после празднованияв Москве азовской победы. 20 октября 1696 года он послал в Боярскую думу запрос: «Статьи удобныя, который к взятой крепости (или фартецыи) от турок Азова». Считаянеобходимым срочно восстановить и заселить Азов, Петр пишет, что столь успешным событием – выходом к морю – нужно воспользоваться, «понеже времяесть, и фортуна сквозь нас бежит, котораяникогда так к нам блиско на юг не бывала: блажен, иже иметца за власы ея. И аще потребно есть сия, то ничто же лутче мню быть, еже (как. – Е. А.) воевать морем, понеже зело блиско есть и удобно многократ паче, нежели сухим путем, о чем пространно писати остовляю многих ради чесных искуснейших лиц, иже сами свидетели есть оному».
И далее самое главное: «К сему же потребен есть флот или караван морской, в 40 или вяще судов состоящей, о чем надобно положить не испустявремени: сколко каких судов, и со много ли дворов и торгов, и где делать?» В самодержавном государстве такой «запрос» автоматически влек за собой соответствующий указ, появившийся 4 ноября 1696 года: «Государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержец, указал: с патриарших и со архиейрейских, и с монастырских – с осми тысяч дворов сделать корабль, с помещиковых и вотчинниковых – с десяти тысяч корабль, за кем с большаго числа до ста дворов, а за кем меньши ста дворов – с тех с двора по полтине; и потому великого государя указу то дело ведал боярин Петр Васильевич Шереметев». Этот указ означал организацию «кумпанств» – компаний, в которые принудительно объединялись помещики, духовенство, горожане для финансирования строительства кораблей.
Петровские публицисты (Феофан, Шафиров) подчеркнуто прославляли личные достоинства Петра, особо отмечая, «что не обрящется не токмо в нынешних нашей памяти веках, но ниже в гисториях прежних веков, его величеству равного, в котором бы едином толико монарху надлежащих добродетелей собрано было и которой бы не во многие лета в своем государстве, толь многие славные дела, не токмо начал, но и от большей части в действо произвел и народ свой, который в таких делах до его государствования отчасти мало, отчасти же и ничего не был искусен, не токмо обучил, но и прославил». Уже при жизни Петра сравнивали с выдающимися деятелями русской и мировой истории: Александром Невским, Александром Македонским, Цезарем и т. д.
Мысли идеологов обращаются к опыту Римской империи. В день празднования Ништадтского мира 30 октября 1721 года Сенат подает прошение, в котором подчеркивает особую роль царя в «произведении» России и просит принять новый, невиданный в России титул: «Всемилостивейший государь! Понеже труды Вашего Величества в произведении нашего отечества и подданного вашего всероссийского народа всему свету известны, того ради, хотя мы ведаем, что Ваше величество, яко самодержцу, вся [власть] принадлежит, однакож в показание и знак нашего истинного признания, что весь подданной ваш народ ничем иным, кроме единых ваших неусыпных попечений и трудов об оном, и со ущербом дражайшего здравия вашего положенных, на такую степень благополучия и славы произведен есть, помыслили мы, с прикладу древних, особливо ж римского и греческого народов, дерзновение восприять, в день торжества и объявления заключенного оными Вашего величества трудами всей России толь славного и благополучного мира, по прочтении трактата онаго в церкви, по нашем всеподданнейшем благодарении за исходотайствование оного мира, принесть свое прошение к Вам публично, дабы изволили принять от нас, яко от верных своих подданных, во благодарение титул Отца Отечествия, Императора Всероссийского, Петра Великого, как обыкновению от Римского Сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статуах для памяти в вечные годы подписываны».
Неизвестный гравер. Первый Зимний дворец Петра I. 1716—1717 гг.
Обращение к опыту Рима здесь не случайно. Ориентация на императорский Рим, на Рим – столицу мира вообще, прослеживается в символике императорской России, да и на более раннем этапе. Это проявляется, как отмечал в своих работах Г. В. Виллинбахов, и в названии новой столицы по имени святого Петра – Санкт-Петербург, и в названии патронального собора, и в гербе города, повторяющем перекрещенные ключи с государственного флага Ватикана.
Важно при этом заметить, что в соответствии с принципами харизмы титул «Отца Отечества» был привилегией только Петра, не являясь обязательным атрибутом российских императоров. И хотя впоследствии преемники первого императора восхвалялись за несуществующие личные достоинства и «щедроты» к российскому народу, официально они его не имели. Правда, уподобляясь своему великому отцу, Елизавета называлась «Матерью Отечествия», но никаких возвышающих душу образов и сравнений у современников ее это не вызывало.
Реформы, тяжелый труд в мирное и военное время воспринимались Петром как постоянная учеба, школа, в которой русский народ постигал знания, неведомые ему ранее. В манифесте 1702 года, которым иностранные специалисты приглашались приехать в Россию, отмечалось, что одна из важнейших задач самодержавия – «к вящему обучению народа доходить тако учредити, дабы наши подданные коль долее, толь веще ко всякому обществу и обходительству со всеми иными христианскими и во нравех обученными народы удобны сочинены быть могли».
Северная война тоже устойчиво связывалась с понятием учения. Получив известие о заключении Ништадтского мира, Петр воспринял это событие как получение аттестата об окончании (правда, с опозданием) своеобразной школы. В письме В. В. Долгорукому по поводу заключения мира он пишет: «Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно, но наша школа троекратное время была (21 год), однакож, слава богу, так хорошо окончилась, как лучше быть невозможно». Известно и его выражение «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую». Действительно, концепция жизни – учебы, обучения – типична для рационалистического восприятия мира, типична она и для Петра, человека необычайно любознательного, активного и способного. Но в школе, в которую он превратил страну, место Учителя, знающего, что нужно ученикам, он отводил себе. В обстановке бурных преобразований, когда цели их, кроме самых общих, не были отчетливо видны и понятны всем и встречали открытое, а чаще скрытое сопротивление, в сознании Петра укреплялась идея разумного Учителя, с которым он идентифицировал себя, и неразумных, часто упорствующих в своей косности и лени детей-подданных, которых можно приучить к учению и добрым делам только с помощью насилия, из-под палки, ибо другого они не понимают. Об этом Петр говорил не раз. Отвечая голштинскому герцогу, восхищавшемуся токарными «работами» Петра, царь, по словам Берхгольца, «уверял, что кабинетные его занятия – игрушка по сравнению с трудами, понесенными им в первые годы при введении регулярного войска и особенно при заведении флота, что тогда он должен был разом знакомить своих подданных, которые, по его словам, прежде предавались, как известно, праздности, и с наукою, и с храбростью, и с верностью, и с честью, очень мало им знакомою».
Еще более откровенно Петр выразил свои мысли в указе Мануфактур-коллегии 5 ноября 1723 года по поводу трудностей в распространении мануфактурного производства в стране: «Что мало охотников и то правда, понеже наш народ, яко дети неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел не все ль неволею сделано, и уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел».
Мысль о насилии, принуждении как универсальном способе решения внутренних проблем не нова в истории России. Но Петр, пожалуй, первый, кто с такой последовательностью, систематичностью использовал насилие для достижения высших государственных целей, как он их понимал.
Среди новелл, составляющих воспоминания Андрея Нартова, есть одна, привлекающая особое внимание. Нартов передает целостную концепцию власти самодержца, как ее понимал царь (естественно – в передаче Нартова): «Петр Великий, беседуя в токарной с Брюсом и Остерманом, с жаром говорил им: „Говорят чужестранцы, что я повелеваю рабами, как невольниками. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Английская вольность здесь не у места, как к стене горох.
Надлежит знать народ, как оным управлять. Усматривающий вред и придумывающий добро говорить может прямо мне без боязни. Свидетели тому – вы. Полезное слушать рад я и от последняго подданнаго; руки, ноги, язык не скованы. Доступ до меня свободен – лишь бы не отягощали меня только бездельством и не отнимали бы времени напрасно, которого всякий час мне дорог. Недоброходы и злодеи мои и отечеству не могут быть довольны; узда им – закон. Тот свободен, кто не творит зла и послушен добру“».
Хотя «Анекдоты» Нартова содержат много недостоверного, но этот заслуживает доверия, ибо подтверждается другими документами и отражает умонастроение Петра. Идея патернализма определяет все: он, Петр, единственный, кто знает, что нужно народу, и его указы, как содержащие лишь безусловное добро, обязательны к исполнению всеми подданными. Недовольные законами, изданными царем, – «злодеи мои и отечеству». Примечательно и убеждение царя, что в России, в отличие от Англии, такой насильственный путь приведения страны к добру – единственный. Причем этот гимн режиму единовластия (а в сущности – завуалированной тирании, при которой закон имеет единственным источником волю властителя) обосновывается все теми же перечисленными выше обязанностями монарха, призванного Богом к власти, а значит, имеющего право повелевать и знающего, в силу Божественной воли, что есть благо.
Как записал в свой дневник Берхгольц, его повелитель, герцог Карл-Фридрих, решил угодить Петру в дни торжеств по поводу Ништадтского мира и построил триумфальную арку, украсив ее с правой стороны изображением «Ивана Васильевича I (Ивана IV. – Е. А.) в старинной короне, положившего основание нынешнему величию России, с надписью „Incepit“ (начал). С левой же стороны, в такую же величину и в новой императорской короне изображен был теперешний император, возведший Россию на верх славы, с надписью „Perfecit“ (усовершенствовал)». Другой придворный голштинского герцога, граф Брюммер (будущий воспитатель Петра III), рассказывал Штеллину о весьма положительной реакции царя на эту аналогию и историческую связь. Петр якобы сказал: «Этот государь (указав на царя Ивана Васильевича) – мой предшественник и пример. Я всегда принимал его за образец в благоразумии и храбрости, но не мог еще с ним сравняться. Только глупцы, которые не знают обстоятельства в его времени, свойства его народа и великих его заслуг, называют его тираном». Думаю, что вряд ли мемуаристы далеко уклоняются от истины, касаясь политических симпатий царя. Они очевидны и вытекают из его философии власти. То соображение, что Петр мало знал о своем предшественнике – Иване Грозном – и потому восхищался им, значения в данном случае не имеет: ведь нам известно, что глубокие знания о кровавой тирании Ивана, накопленные поколениями историков, не смогли тем не менее поколебать устойчивых политических симпатий к средневековому тирану Сталину – этому «душегубцу и мужикоборцу» новейших времен.
Концепция принуждения основывалась не только на вполне традиционной идее патернализма, но, вероятно, и на особенностях личности Петра. В его отношении к людям было много того, что можно назвать жестокостью, нетерпимостью, душевной глухотой. Человек с его слабостями, проблемами, личностью, индивидуальностью как бы не существовал для него. Создается впечатление, что на людей он часто смотрел как на орудия, материал для создания того, что было им задумано для блага государства, империи. Думаю, что Петру должны были быть близки мысли Ивана Грозного, корившего Курбского и ему подобных за непослушание на том основании, что Бог подданных ему «дал в роб Ђоту». Конечно, следует отметить, что для Ивана понятие «робота» идентично понятию «рабство», а «работные», все без изъятия, – отданные в рабство подданные. Но вместе с тем в отношении Петра и Ивана к подданным было много общего. Довольно странная шутка и сомнительная аллегория встречаются в письме царя из-под Шлиссельбурга от 19 апреля 1703 года Т. Н. Стрешневу, ведавшему набором солдат в армию: «Как ваша милость сие получишь, изволь не помедля еще солдат сверх кои отпущены, тысячи три или больше прислать в добавку, понеже при сей школе много учеников умирает, того для не добро голову чесать, когда зубы выломаны из гребня».
Очень выразительным кажется и письмо в Петрозаводск по поводу болезни личного врача Петра доктора Арескина, который многие годы входил в ближайшее окружение царя. 2 декабря 1718 года Петр писал В. Геннину – местному начальнику: «Господин полковник. Письмо твое ноября от 25-го дня до нас дошло, в котором пишешь, что доктор Арескин уже кончаеца, о котором мы зело сожалеем, и ежели (о чем боже сохрани) жизнь ево уже прекратилась, то объяви доктору Поликалу, дабы ево распорол и осмотрил внутренне члены, какою он болезнию был болен и не дано ль ему какой отравы. И осмотря, к нам пишите. А потом и тело ево отправьте сюды, в Санкт-Питербурх. Петр». Поразительная предусмотрительность царя обусловлена тем, что он заподозрил отравление Арескина, сторонника Якова Стюарта – претендента на английский престол, склонявшего Петра поддержать «якобитов». Вполне допустимо, что Петр подумал о заговоре, в чем-то угрожавшем ему. Но в данном случае наше внимание обращает на себя холодный прагматизм, жутковатая деловитость в отношении достаточно близкого ему человека. С такой же деловитостью в 1709 году он поучал Апраксина, как допрашивать больного государственного преступника: «О протопопе Троицком извольте учинить по своему рассмотрению. Ежели будет вам время, то извольте ево взять к Москве и, хотя за болезнию ево пытать нельзя, однакож выпытывать возможно и не поднимаючи, а имянно, чтоб бить, разложа плетьми или батогами и при том спрашивать». Было бы неверно думать о некоей патологии царя – Петр не проявлял палаческих склонностей. Он жил в жестокий век, дети которого бежали, как на праздник, к эшафоту, и войска с трудом сдерживали толпу, стремившуюся поближе насладиться зрелищем мучительной казни очередного преступника. Да, век был суров, но, как справедливо сказал поэт А. Кушнер, «что ни век, то век железный», и нельзя не заметить, что в отношении Петра к людям многое шло от самой личности, от свойств души этого сурового, жестокого и бесцеремонного к окружающим человека. Мемуаристы отмечают, как, например, сидя рядом с бургомистром вольного города Гданьска на торжественном богослужении, данном в честь высокого гостя в центральном соборе, Петр вдруг содрал с головы бургомистра парик и нахлобучил его на свою голову. После окончания службы он с благодарностью вернул парик ошеломленному хозяину. Все было предельно просто: оказывается, во время мессы царю стало холодно от гулявших по собору сквозняков. И он сделал то же, что не раз проделывал со своими спутниками и слугами.
Чтение указа об основании Санкт-Петербурга Петром Великим в 1703 г. Неизвестный мастер. Литография по рисунку П. Иванова.
Несомненно, Петр был человеком сильных чувств и в их проявлениях резок, порывист. Эти чувства подчас охватывали его целиком. Даже его деловые письма иногда передают эту страстность. Вот только один пример: 6 февраля 1710 года Петр получил долго ожидаемое подтверждение из Стамбула о том, что турки отменили военные приготовления против России и тем самым развязали ему руки для действий в Прибалтике. 7 февраля Петр пишет А. Кикину: «Вчерашнего дни от давного времени с великою жаждою ожидаемого курьера из Константинополя получили… и теперь уже в одну сторону очи и мысль имеем». И таких экспрессивных, выразительных писем в эпистолярном наследии Петра немало.
После сказанного нетрудно понять, каким страшным, не знавшим границ мог быть гнев Петра. Примечательно, что в состоянии сильного раздражения у него вдруг начинался припадок, приводивший окружающих в состояние ужаса.
Вот как описывает такой случай Ю. Юль, вместе с канцлером Головкиным участвовавший в январе 1710 года в торжественной церемонии вступления русской армии – победительницы при Полтаве – в Москву: «Мы проехали таким образом порядочный конец, как вдруг мимо нас во весь опор проскакал царь. Лицо его было чрезвычайно бледно, искажено и уродливо. Он делал различные страшные гримасы и движения головою, ртом, руками, плечами, кистями рук и ступнями. Тут мы оба вышли из кареты и увидали, как царь, подъехав к одному простому солдату, несшему шведское знамя, стал безжалостно рубить его обнаженным мечом и осыпать ударами, быть может за то, что тот шел не так, как хотел царь. Затем царь остановил свою лошадь, но все продолжал делать описанные страшные гримасы, вертел головою, кривил рот, заводил глаза, подергивал руками и плечами и дрыгал взад и вперед ногами. Все окружавшие его в ту минуту важнейшие сановники были испуганы этим, и никто не смел к нему подойти, так как все видели, что царь сердит и чем-то раздосадован… Описанные выше страшные движения и жесты царя доктора зовут конвульсиями. Они случаются с ним часто, преимущественно, когда он сердит, получил дурные вести, вообще, когда чем-нибудь недоволен или погружен в глубокую задумчивость. Нередко подобные подергивания в мускулах рук находят на него за столом, когда он ест, и если при этом он держит в руках вилку и ножик, то тычет ими по направлению к своему лицу, вселяя в присутствующих страх, как бы он не порезал или не поколол себе лица. Говорят, что судороги происходят у него от яда, который он будто бы проглотил когда-то, однако вернее и справедливее предположить, что причиной их является болезнь и острота крови и что эти ужасные на вид движения – топание, дрыгание и кивание – вызываются известным припадком сродни апоплексическому удару».
Отметим для полноты картины следующее. Мартов, хорошо знавший быт Петра, дает другую версию причин конвульсивных движений, поражавших время от времени царя, а именно – тяжелые детские воспоминания об ужасе стрелецкого бунта 15 мая 1682 года, когда десятилетний мальчик стал свидетелем кровавой расправы с близкими ему людьми. Нартов записал: «О бунтах стрелецких некогда промолвил государь: „От воспоминания бунтовавших стрельцов, гидр отечества, все уды (члены. – Е. А.) во мне трепещут, помысля о том, заснуть не могу. Такова-то была сия кровожаждущая саранча!“ Государь по истине имел иногда в нощное время такие конвульсии в теле, что клал с собою деньщика Мурзина, за плечи которого держась, засыпал, что я сам видел. Днем же нередко вскидывал голову кверху…»
Случай расправы с солдатом в 1710 году достаточно типичен. Спустя десять лет, в 1720 году, на очередном параде, другой современник, В. А. Нащокин, наблюдал почти то же самое: «Когда оных пленных вели и… сам государь, будучи в мундире гвардии, учреждал конвой и как итить с пленными до крепости, а лейб-гвардии Семеновского полка капитан старшей Петр Иванов сын Вельяминов в то учреждение своим представлением вмешался, котораго государь при всей той оказии бил тростью». Вряд ли нужно было бы фокусировать внимание читателя на этих неприглядных сценах расправы с людьми, которые не могут ответить, если бы палка не была своеобразным символом системы насилия, культивируемого Петром. Вероятно, об успехах «дубинной» педагогики говорить не приходится. Нартов вспоминал размышления царя на этот счет: «Государь, точа человеческую фигуру в токарной махине и будучи весел, что работа удачно идет, спросил механика Нартова: „Каково точу я?“ И когда Нартов отвечал: „Хорошо“, то сказал его величество (со вздохом, добавили бы мы на месте Нартова. – Е.А): „Таково-то, Андрей, кости точу я долотом изрядно, а не могу обточить дубиною упрямцов“». В другом случае «государь, – пишет Нартов, – возвратясь из Сената и, видя встречающую и прыгающую около себя собачку, сел и гладил ее, а при том говорил: „Когда б послушны были в добре так упрямцы, как послушна мне Лизета (любимая его собачка), тогда не гладил бы я их дубиною. Моя собачка слушает без побой, знать в ней более догадки, а в тех заматерелое упрямство“».
Письма Петра к чиновникам, командирам полны требований проявить дисциплину, инициативу, быстроту – то, что в данный момент было нужно для пользы дела. Почти каждое такое требование сопровождалось угрозой насилия, расправы. Приведу примеры. Вот типичный указ о строительстве судов для армии 30 мая 1722 года: «Смотреть того, чтоб делали как суды, так и такелаж не образом только, но делом, чтоб были крепки и добрым мастерством и сие не токмо волею, но и неволею делать, а ослушников штрафовать сперва деньгами, а в другой раз и наказанием». В письме А. Меншикову от 6 февраля 1711 года он, недовольный и опечаленный волокитой губернаторов, обещал при этом утолить свои печали привычным для себя способом: «А доныне Бог ведает, в какой печали пребываю, ибо губернаторы зело раку последуют в происхождении своих дел, которым последний срок в четверг на первой неделе, а потом буду не словом, но руками с оными поступать».
Часто встречается в указах Петра своеобразная «формула угрозы»: «…тогда не мините не только жестокий ответ дать, но и истязаны будете». Весьма суровые указы Петр посылал сенаторам, не особенно церемонясь с высшими сановниками России. И они знали, что угрозы эти не останутся на бумаге. Примечателен в этом смысле указ Сенату от 2 июля 1713 года, в котором – весь Петр: «Господа Сенат! Понеже уведомлены мы, что вы по доносам фискальским ни единого главного дела не вершили, но все проманеваете время до времени, забывая бога и души свои, того ради сие последнее, о сем пишу к Вам. Ежели пяти или шти дел главных, буде более не успеете (о которых вам будут фискалы доносить) до ноября первого числа не вершите и преступником (которые для своих польз интерес государственной портят) не учините смертную казнь, не щадя никово в том и ежели инако в том поступите, то вам сие будет. Петр».
Многочисленные призывы и угрозы не могли заставить людей делать так, как этого требовал Петр: точно, быстро, инициативно. Мало кто из его сподвижников чувствовал себя уверенно, когда приходилось действовать без указки царя, самостоятельно, на свой страх и риск. Это было неизбежно, ибо Петр, по точным словам В. О. Ключевского, «надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная». Характерным для многих петровских сподвижников было ощущение беспомощности, отчаяния, когда они не имели точных распоряжений царя или, сгибаясь под страшным грузом ответственности, не получали его одобрения. Обращает на себя внимание письмо президента Адмиралтейской коллегии Ф. М. Апраксина от 31 декабря 1716 года к секретарю Петра Макарову «В надеянии вашем прошу, для Бога, не оставь нас безизвестна, извольте ль быть к нам, истинно во всех делах как слепые бродим и не знаем, что делать, стали везде великая растройка, а где прибегнуть и что впредь делать не знаем, денег ниоткуда не везут, все дела становятся». И это пишет один из влиятельнейших людей того времени, человек, облеченный доверием грозного царя!
Читая такие письма, Петр имел все основания полагать, что без него все дела встанут и что он единственный, кто знает, как и что нужно делать. Вместе с этим чувством исключительности Петром, далеким от самолюбования и пустого тщеславия, должно было владеть другое чувство – чувство одиночества, сознание того, что его боятся, но не понимают, делают вид, что трудятся, но ждут, когда он отвернется, умрет, наконец. Это было неизбежным и трагическим следствием всякой авторитарности, насилия, естественным образом порождавших леность раба, воровство чиновника и прочие пороки общества.
К концу жизни, лишившись сына Петра – наследника и надежды, – царь мог воскликнуть, как некогда в письме уничтоженному им же царевичу Алексею: «…ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеписанное с помощию вышнего насаждение и уже некоторое и возращенное оставлю?» Да, он был смертным человеком, и судьбе было угодно обречь его на тяжкую смерть. В ней было много символичного и неясного; как и в судьбе России, которой предстояло жить без Петра… Однако обратимся сначала к событиям Северной войны, к началу той жестокой школы жизни, пройдя которую, молодой русский царь стал императором Петром Великим.
«Нарвская конфузия»
С бастионов шведской крепости Нарвы 9 сентября 1700 года можно было наблюдать движущиеся с северо-востока войска и обозы – это почти 40-тысячная армия Петра приближалась к шведской крепости на пограничной с Россией реке Нарове. Так для России началась Великая Северная война, и никто тогда не мог предположить, что она продлится более двух десятилетий (до 1721 года), что война эта кончится лишь тогда, когда родится, подрастет и даже повзрослеет по обе стороны Балтики новое поколение, для которого память о «злосчастной» Нарве станет преданием.
Ну а в те осенние дни вряд ли Петр мог предположить, что Нарва 1700 года будет рубежом и в его жизни, и в жизни огромной страны, повелителем которой он стал. Вместе со своими военачальниками он проводил рекогносцировку местности, намечая, где строить палисады (тыны), возводить валы, чтобы в осажденную твердыню не проскочила и мышь. Уверенно и спокойно работали люди: готовилась длительная осада этой мощной крепости – ключевого пункта обороны на стыке двух заморских провинций Шведского королевства – Ингрии и Эстляндии. Молодой царь, руководивший работами, не был новичком в этом деле, и осада Нарвы после Азова казалась ему, вероятно, привычным делом, успех которого очевиден. Для такой уверенности были все основания: Петр уже прошел, и вполне достойно, боевую школу на далеких от Нарвы южных рубежах – там, где судьбой было определено ему начать свою удивительную «карьеру».
Конечно, он ничего не знал о военном гении молодого шведского короля Карла XII, явно недооценивал могущество Шведского королевства, с которым предстояла такая долгая война. Впрочем, состояние войны станет привычным для Петра: из 52 лет его жизни Россия воевала 37 лет!
В 1700 году только что закончилась тянувшаяся 14 лет война с Турцией и ее вассалом – Крымским ханством. Конечно, Русско-турецкая война 1686—1700 годов не была столь грандиозна, как Северная, но и на ней тоже лилась кровь, погибали тысячи людей. В определенном смысле война с Турцией и Крымом была для России вынужденной, вызванной не столько острыми внутренними проблемами, сколько общей международной ситуацией, той системой международных отношений, в которую была включена Россия.
В 70-80-х годах XVII века натиск османской Турции на земли Австрии (Империи), Речи Посполитой и России значительно усилился. Сражения русских и украинских войск с турками под Чигирином в 1677—1679 годах не дали решительного перевеса ни одной из сторон, но все же сдержали турецкую экспансию на север. Австрия и Польша находились в более опасном положении: турки стояли на южной границе Речи Посполитой – в Каменце-Подольском; столицу же Империи спас от османов только подвиг австро-польского войска Яна Собеского.
Заинтересованная в активизации антитурецких сил Австрия добивалась примирения Речи Посполитой и России – заклятых врагов, которые, закончив в 1618 году тяжелейший конфликт, еще дважды – в 1632—1634 и 1654—1666 годах – его возобновляли. Эти войны были малоуспешными для России, и все территориальные потери времен Смуты не возмещены. Поэтому, соглашаясь на мировую с Речью, русская дипломатия требовала возвращения Смоленской земли и признания присоединения к России Левобережной Украины с Киевом, за что русская сторона обещала выплатить 146 тысяч рублей и начать войну с Турцией. 6 мая 1686 года на этих условиях и был подписан «вечный» мир с Польшей. Он подвел итог длительному периоду ожесточенной борьбы поляков и русских и обозначил тот краткий миг равновесия сил в русско-польских отношениях, после которого чаша России начала все сильнее и сильнее перевешивать. Но тогда этого отмеченного судьбой перелома никто не почувствовал, и естественным следствием мира с Польшей стала война с Турцией и Крымом, избежать которой Россия уже не могла.
Взятие Нарвы в 1704 г. Картина профессора Коцебу. Гравюра Паннемакера.
Русские войска под командованием В. В. Голицына дважды, в 1687 и 1689 годах, совершали походы против Крымского ханства, но оба оказались неудачными и славы русскому оружию не принесли. Выжженные степи, бездарное командование, умелые действия кочевников – эти и многие другие обстоятельства сделали отступление из-под невзятых укреплений Перекопа подлинным бегством, сопровождаемым огромными потерями. Но вопреки очевидности правительство Софьи отказывалось признать неудачи в войне с Крымом. Указ 1689 года расценивал второй Крымский поход как несомненный успех войск Василия Голицына: «И, видя на себя хан крымский вас бояр и воевод, и полков ваших всяких их великих государей крепкое и мужественное и храброе наступление, пришел в страх и ужас…» В. В. Голицын получил за мнимую победу «кубок золоченой с кровлею (крышкой. – Е. А.), кафтан золотный на соболях, денежные придачи 300 рублев, да в вотчину Суздальского уезда – село Решму».
Однако не прошло и нескольких недель, как поход Голицына – любимца Софьи – получил совершенно другую оценку. Она была дана в указе, который исходил из окружения нового властителя России – 17-летнего Петра, отнявшего в августе 1689 года власть у Софьи: «Да он же князь Василей 197 году (1689 г. – Е. А.) посылан с их великих государей ратными людьми для промыслу на крымские юрты и, пришед к Перекопу, промыслу никакова не учинил, и, постояв самое малое время, отступил и тем своим нерадением их великих государей казне учинил великие убытки, а государству разорение, и людем великую тягость».
Тем не менее новое правительство молодого царя унаследовало старые внешнеполитические проблемы. Надо сказать, что оно не спешило их решать: ситуация в Европе оставалась запутанной, Турция и Крым на какое-то время прекратили военные действия, масса внутренних более важных тогда для молодого царя дел долгое время занимала его ум, пока наконец в 1695 году, подчиняясь требованиям союзников, не было решено возобновить войну. И хотя крымское направление похода официально оставалось главным, основной удар был нанесен непосредственно по владениям Турции в Северном Причерноморье – в устье Днепра и в устье Дона.
Петр принял такое решение, конечно, в первую очередь потому, что не хотел повторять судьбу своего незадачливого предшественника – Василия Голицына. Но все же главным в замысле нового похода было стремление установить контроль над устьями Днепра и Дона, что позволяло закрепиться на побережьях Черного и Азовского морей, являвшихся тогда внутренними турецкими морями, и одновременно контролировать течение этих рек. Именно такое направление стратегических ударов стало основным в длительных русско-турецких войнах за Северное Причерноморье в послепетровские времена. Набег же на Крым мог принести лишь временные выгоды. Поэтому главной целью первого Азовского похода 1695 года стали турецкие крепости Кази-Керман и Арслан-Ордек в устье Днепра и крепость Азов в устье Дона. Основной удар Петр решил нанести по Азову, поскольку к осадному корпусу было легче доставлять войска и припасы из контролируемых Россией верховьев Дона и Воронежа.
Осада Азова началась в июле 1695 года и продолжалась почти четыре месяца, но без успеха. Тому было много причин. Тут и слабая подготовка войск, отсутствие единоначалия, нехватка хороших инженеров, способных грамотно провести осадные и предштурмовые работы, и какая-то общая неразбериха, суета, неоправданные жертвы. Чего стоят только взрыв мин, который нанес урон не укреплениям Азова, а самим осаждавшим, и два неудачных штурма, когда активность одних штурмующих отрядов сочеталась с нерешительностью и пассивностью других, что привело к огромным потерям. Русские войска не смогли также воспрепятствовать и свободному подвозу в крепость подкреплений с моря. В итоге пришлось дать приказ об отступлении. Началось оно поздней осенью, проходило по голой степи, стужа и голод косили людей и животных, так что вернувшееся в Россию воинство Петра мало чем отличалось от того, что пришло несколькими годами раньше с Василием Голицыным. Период между первым и вторым походами Петра на Азов был весьма важным для будущего. Он показал, что у молодого царя, который в первом походе лишь наблюдал за бездарными действиями генералов, есть воля, ум, талант государственного деятеля, желание изменить неблагоприятную ситуацию и заставить во имя этого напряженно работать тысячи и тысячи людей. 30 ноября 1695 года, только что прибыв в Москву, Петр написал архангелогородскому воеводе Ф. М. Апраксину: «По возвращении от невзятия Азова, с консилии господ генералов, указано мне к будущей войне делать галеи (галеры. – Е. А.), для чего удобно, мню, быть шхиптимерманом (корабельным плотником. – Е. А.), всем от вас сюды, понеже они сие зимнее время туне будут препровождать, а здесь могут тем временем великую пользу к войне учинить…»
Не прошло и четырех месяцев, как Петр писал 23 марта 1696 года князю Федору Юрьевичу Ромодановскому: «А о здешнем возвещаю, что галеры и иныя суда, по указу вашему (так. – Е.А.), строятся, да ныне же зачали делать на прошлых неделях два галиаса».
Эти два письма свидетельствуют: Россия начала строить военно-морской флот. За короткое время тысячи крестьян были согнаны в дремучие тогда воронежские леса и принялись валить строевой лес, затем свозить и сплавлять его по первой воде в Воронеж, где на основанной Петром верфи под руководством английских и голландских мастеров закипела работа. И далее две поразительные даты, разделенные лишь двумя месяцами: 2 апреля 1696 года, когда первая галера сошла со стапеля в воды реки Воронеж, и 27 мая того же года, когда Азовское море увидело русский военно-морской флаг – флот из 22 галер, сопровождаемых массой мелких судов, впервые вышел в открытое море. Все это было похоже на волшебную сказку, особенно если вспомнить время, когда это произошло. Мечта Петра о море начала сбываться.
Но затем начались будни, причем довольно суровые. Молодой русский флот, плохо укомплектованный и немобильный, столкновения с турецким явно избегал, так что попытки турок доставить припасы и людей в Азов были решительно пресечены не галерами, а главным образом казаками, которые на своих легких лодках захватили несколько транспортных судов и отогнали крупные турецкие корабли в открытое море. В целом же осада, благодаря присутствию морских сил, пошла успешнее, чем в прошлом году. Петр удачно блокировал устье Дона: на обоих берегах были построены форты, вооруженные пушками, – своеобразный «замок» на устье, делавший невозможным беспрепятственный вход вражеских судов в Дон к осажденному Азову.
Высадившаяся тем временем с кораблей армия под командой «генералисима» А. С. Шеина вновь, как и в прошлом году, заняла траншеи и апроши (рвы, подходы), которые так и не были разрушены турками, легкомысленно полагавшими, что русский царь надолго запомнит «невзятие Азова» и забудет дорогу к его стенам.
Осада крепости проходила по старому образцу, причем минные подкопы делать боялись, как и пытать судьбу на штурмовых лестницах. Была начата гигантская, но бессмысленная с военной точки зрения работа – возведение вокруг крепости вала такой величины, чтобы он оказался выше турецкого крепостного вала и засыпал бы ров крепости. Этот крайне архаичный для XVIII века вид осады напоминал, как писал историк Н. Устрялов, летописную осаду князем Владимиром Херсонеса в X веке. Неизвестно, сколько бы тянулась осада, если бы не новая, более умелая расстановка орудий, прицельным огнем разрушавших турецкие укрепления, «промысел» запорожцев и донцов, захвативших вал крепости, наконец, эффективная блокада Азова с моря. Видя все это, турки начали переговоры о сдаче, и в середине июля 1696 года русские войска вошли в Азов.
Это событие повлекло за собой два следствия: одно – дипломатическое, другое – стратегическое. Азовский успех дал России право громко требовать от своих союзников соответственных усилий в войне с Турцией. Обращаясь к одному из союзников – дожу Венеции – Петр в грамоте от 7 августа 1696 года призывал: «…дабы и ваше светлейшество против того ж общаго неприятеля, в нынешнее согласное и удобное время, войска свои сухим и водяным путем в их бусурманские жилища посылали, и, в надежде той же божией поспешествующей силы, с нашим царским величеством и с протчими союзниками нашими обще воевали того неприятеля крепчайшим усердием, чтоб оный неприятель, в поврежденней уже своей будучи бусурманской силе и наипаче в таком своем изнеможении против общих наших оружей християнских, отовсюду изнурен и отягощен и в попрание могл быть приведен».
Вряд ли призывы Петра к малоактивным тогда союзникам были только чистой риторикой, желанием поднять низкий международный престиж России. Взятие Азова не было просто «поиском» – походом с возвращением, подобно Крымским походам. Одно из первых после взятия Азова писем в Москву Петр заканчивает словами: «Писано в завоеванном нашем граде Азове», подчеркивая тем самым, что намерен укрепиться у моря навсегда. Более того, Петр рассматривал взятие Азова и закрепление там лишь как начало реализации долговременных стратегических планов, имевших глубокую политическую и военную перспективу. Надо сказать, что длямногих и в России, и за рубежом это, по-видимому, оказалось совершенно неожиданным.
Сразу же после того, как над бастионами крепости был поднят российский флаг, Петр начал реконструировать ее согласно новейшим достижениям фортификационной науки. Его указания выполняли специально приглашенные для этого иностранцы – военные инженеры. День и ночь армия-победительница восстанавливала и достраивала азовские укрепления. Примечательным было и освящение города, а также двух православных церквей, переделанных из мечетей. Это должно было символизировать намерение России надолго остатьсяв Приазовье. Сам же Петр с галерным флотом отправилсявдоль морского побережьяна поиски удобной гавани. Окрестности мыса Таган-Рог показались царю и его свите самыми подходящими. Здесь было задумано заложить крепость, город и гавань Таганрог – решение необычайной важности, ибо это означало, что построенные в Воронеже корабли понадобятсяПетру не только длядоставки войск к Азову, но и в целом дляобороны Приазовья, ради чего Петр и начал создавать базу военно-морских сил на Азовском море.
Серьезность этих невиданных и грандиозных длятогдашней России планов Петр подтвердил сразу же после празднованияв Москве азовской победы. 20 октября 1696 года он послал в Боярскую думу запрос: «Статьи удобныя, который к взятой крепости (или фартецыи) от турок Азова». Считаянеобходимым срочно восстановить и заселить Азов, Петр пишет, что столь успешным событием – выходом к морю – нужно воспользоваться, «понеже времяесть, и фортуна сквозь нас бежит, котораяникогда так к нам блиско на юг не бывала: блажен, иже иметца за власы ея. И аще потребно есть сия, то ничто же лутче мню быть, еже (как. – Е. А.) воевать морем, понеже зело блиско есть и удобно многократ паче, нежели сухим путем, о чем пространно писати остовляю многих ради чесных искуснейших лиц, иже сами свидетели есть оному».
И далее самое главное: «К сему же потребен есть флот или караван морской, в 40 или вяще судов состоящей, о чем надобно положить не испустявремени: сколко каких судов, и со много ли дворов и торгов, и где делать?» В самодержавном государстве такой «запрос» автоматически влек за собой соответствующий указ, появившийся 4 ноября 1696 года: «Государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержец, указал: с патриарших и со архиейрейских, и с монастырских – с осми тысяч дворов сделать корабль, с помещиковых и вотчинниковых – с десяти тысяч корабль, за кем с большаго числа до ста дворов, а за кем меньши ста дворов – с тех с двора по полтине; и потому великого государя указу то дело ведал боярин Петр Васильевич Шереметев». Этот указ означал организацию «кумпанств» – компаний, в которые принудительно объединялись помещики, духовенство, горожане для финансирования строительства кораблей.