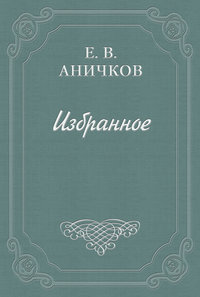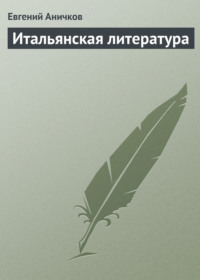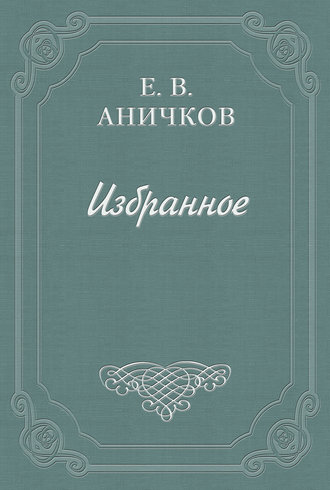
V. Современная эстетика
Психологические исследования вопросов красоты, получившие широкое распространение лишь во второй половине истекшего века, имеют полное право на название современной Э. Так как Э. развивается по следам самого искусства, а во второй половине XIX в. преобладало искусство реалистическое, то нам предстоит рассмотреть эстетические воззрения, создавшиеся на данных реалистического искусства. В первых годах истекшего столетия, после выхода в свет «Вильгельма Мейстера» Гёте, Шлегель объявил роман самой современной формой поэтического творчества; во все последующее время роман и развивается как основной вид поэзии, и забывается та точка зрения XVI, XVII и XVIII вв., по которой роман стоит совершенно отдельно, как бы у притолоки храма искусства. Иными аргументами то же положение, что и Шлегель, высказал полустолетием позже Тэн. С этого времени его можно считать вполне упрочившимся. Сначала особое развитие получает исторический роман или роман с любовной или фантастической завязкой; к середине века роман стремится охватить всю жизнь, во всех ее самых серьезных проявлениях. В этом отношении наиболее характерна «Человеческая комедия» Бальзака. В романе ценится всего более его каждодневность. Аристотелевское положение о подражании, забытое в эстетике, как науке, более чем когда-либо применяется в искусстве. На первых порах это подражание природе переходит в теорию искусства, как характерно-красивое, несколько раз определявшееся еще Гёте, вслед за Гиртом, поместившим об этом статью в «Hören» (1797). Воспроизведение характерного и типичного, как способ подражания природе, возвращает нас к рационалистическим воззрениям на искусство века классицизма, с типичными фигурами его комедий. Связь реалистических приемов творчества XIX в. с реализмом старого, доромантического искусства обнаруживается особенно наглядно на почве комизма. Историк современной живописи Мутер показал совершенно ясно, какое значение имела карикатура для развития жанра, становящегося в центре художественных интересов и постепенно вытесняющего библейские и исторические сюжеты. Тот же путь распространения реалистических вкусов можно проследить и в литературе. Провозвестники реализма или, как он скоро назвал себя, натурализма – Диккенс, Теккерей, Гоголь, писатели-комики, в начале своей деятельности и не ставившие себе иных задач. Равным образом близки с персонажами старой комедии и типы Бальзака – его скупец, любящий отец, озлобленная старая дева, ненасытный сластолюбец. Когда в своем «De l'idéal dans l'art» (1866), вошедшем в «Философию искусства», Тэн доказывает, что проведение преобладающей черты составляет основную задачу художественного воспроизведения, он также ищет наиболее подходящих примеров у Мольера и Бальзака. Типичное и характерное составляют, однако, лишь переходную ступень в теории искусства XIX в.; они представляют собой лишь ту лазейку, через которую проникает каждодневное, простое, взятое прямо из жизни. Красота характерного, преобладающая черта, комизм – все это скоро забывается, и на Бальзака, Диккенса, Гоголя в 60-х годах смотрят уже именно как на создателей натурализма, самым коренным образом отмежевывая их от старых комиков XVII и XVIII вв., которых, впрочем, также начинают ценить как провозвестников воспроизведения действительности. Такое увлечение каждодневным без отношения к тому, через какую категорию эстетических подразделений оно проходит в искусство, совершенно понятно в век науки и деловой горячки. Э. каждодневного естественно становится единственной Э. этой антихудожественной поры позитивизма и политической экономии. «Брюхо Санчо Пансы разорвало пояс Венеры», – говорил Флобер. Позднее своим «Экспериментальным романом» Золя старается создать новую теорию искусства, отвечающую научным увлечениям времени. С одной стороны, эта теория стремится удовлетворить чисто познавательным потребностям; искусство оказывается лишь особым способом научного изыскания. С другой стороны, именно в силу того что искусство ставит себе задачи познания, эта теория уже вовсе не руководится соображениями о том, что красиво и что некрасиво; оно широко раскрывает двери искусства и заведомо уродливому, жалкому, низкому, ничтожному, горестному, даже порочному и извращенному, так как все это одинаково важно для опытов над природой человека. Без всяких оговорок о моментах или видоизменениях красоты она говорит: «искусство – уголок природы, рассмотренный темпераментом художника». Если Гёте уверял, будто в искусстве нам часто нравится то, что противно в жизни, то Золя, увлеченный познаванием и по-своему опоэтизировавший его, вовсе не задумывается над тем, должны ли вообще нравиться воспроизводимые им образы. Иногда окончательно забытым оказывается и характерное, и типичное. Мы слышим о нем во второй половине истекшего столетия все реже и реже. В «Тридцати годах Парижа» А. Доде, рассказывая нам, как возникали в его воображении герои его романов, представляет художественный образ скорее индивидуальным и сознательно индивидуализируемым. Основным принципом теории искусства становится теперь даже не подражание, а правда, правда, часто горькая, вовсе не претендующая на то, чтобы нравиться, – вот всепоглощающий закон, который управляет теперь эстетической деятельностью, не позволяющей себе более никакого выбора. «Каждый атом существующего содержит в себе элементы красоты», – говорит Флобер. Это замечание Флобера служит звеном, соединяющим представленное только что течение в художественной литературе с параллельно развивающимися течениями в живописи. Свет и краска приобретают все большее значение. Когда Энгр говорил: «я открою школу рисования и буду выпускать живописцев», подобный взгляд отзывался еще классицизмом Давида. «Картина должна быть праздником для глаза» – вот чего добивался поэт красок Делакруа, и за ним на поиски за светом и красками устремились целые поколения художников. То же самое делает и Тернер, поставленный Рескиным в центре «Современных Художников». И свет, и краски живописи XIX столетия, по совету того же Рескина, должны избегать театральной деланности величайших колористов Возрождения, венецианцев. Рёскин указывает на дорафаэлевский пейзаж, потому что он более искренен. Света и красок должен добиваться живописец под открытым небом, перед бесчисленными переливами почти неуловимых оттенков природы. Природа становится главным учителем живописи. Она одновременно и вожделенная, недостижимая утопия, и бесконечный источник знания. Природа непогрешима и свята, ее культ – истинный культ красоты. Так говорят французские «pleine-air'исты», так называемая школа художников Фонтенбло. Мы далеко ушли от Гёте, объяснявшего Эккерману, как художник приступает к изображению дерева, как он избирает точку зрения и освещение, как он ищет в дереве требуемой красоты. Невозможно стало и отношение к природе англичан XVIII в., думавших, что восторгаться ландшафтом – значит найти такой угол зрения, с которого природа кажется картинкой, так что хочется вставить ее в рамку. Такое отношение представляется теперь профанацией и святотатством. Природа прекрасна вся целиком, без исключения и без оговорок. Научиться смотреть должен художник, а не выбирать и комбинировать. Смотреть и воспринимать, понять и воспроизвести учит и Рескин, постигший природу и изучавший ее и как естествоиспытатель. Влияние Рескина все усиливается. Чтобы воспитать в себе святой восторг перед природой, не надо так же, как это делали классики, непременно устремляться под небо Италии, не надо, как романтики, искать живописного либо на Востоке, либо в гористых, причудливо пересеченных местностях Европы. Напротив, тот же Рёскин, вслед за Дидро, утверждает, что свою привычную природу, какова бы она ни была, всегда полнее и лучше воспроизведет художник. Рядом с красотой шотландских лохов Вордсворт обращает внимание на менее живописную «страну озер» родного острова. Милле пишет возделанную и всю изрезанную пашнями Францию; у нас березовый лесок с золотыми, падающими осенью листьями, наши лесные дали увлекают еще колеблющихся Клевера и Шишкина, и, наконец, Левитан дает нам совершенный и спокойный русский ландшафт. Но не надо думать, что непременно природа должна руководить художником. Для современного человека, нахлынувшего в города, природа – только часть действительности. Он чуть ли не еще более привык к свету газа и электричества, чем к солнечному и лунному блеску. Природой он наслаждается чаще всего за столиками кофейни в загородном парке, где солнечные лучи пятнами падают на столы и одежды. И эту природу изображает Моне, а за ним целая школа; Дега схватывает и фантастический свет театральной рампы, неестественный цвет лица намалеванных красавиц. В своем влечении к правде живопись хочет дать нам даже эффект мимолетно брошенного взора и редкого освещения. Это – дело «импрессионизма». Учитель искусства уже не одна природа; истинный учитель – действительность, в ней неисчерпаемый бесконечный запас настроений и впечатлений, уроки ее не знают предела и наставлений у нее хватит навсегда. Если теперь мы попробуем сформулировать все эти приобретения искусства в XIX в., мы не найдем более ясного и полного определения, как те два основных вывода, к которым пришел молодой Чернышевский в своих «отношениях искусства к действительности». С одной стороны, содержание искусства не исчерпывается красотой и ее так называемыми моментами, а охватывает все интересное в жизни; с другой стороны, красота искусства в эстетическом отношении ниже красоты действительности. Первое из этих двух положений французские натуралисты выразили бы, правда, несколько иначе. Вместе с Золя они сказали бы: «безразличие к сюжету – вот основа реализма». Но это различие не так существенно: замечательно то, что еще в середине 50-х годов была найдена молодым критиком формула эстетического учения, которому предстояло расти и крепнуть целое полустолетие. Заслуга Чернышевского заключается именно в том, что он решился противопоставить Э., создаваемую современным ему направлением искусства (тогда даже чуть намечавшимся), школьной Э., рассуждавшей отвлеченно. В свое время небольшая книжка Чернышевского, вызвавшая со всех сторон горячие возражения (см., между прочим, брошюру К. К. Случевского), не могла быть понята во всем своем значении. Противоположение искусства действительности было истолковано через призму добролюбовской критики, судившей о жизни на основании текущей художественной литературы и в этом полагавшей главное значение поэзии. Слова Чернышевского, поэтому, долго считались лишь проповедью служебного положения искусства по отношению к жизни. Другое его положение также толковалось лишь как отрицание Э., а вовсе не как момент ее обновления. Книжка Чернышевского и прошла почти незаметно, как бы одиноко и преждевременно упала на неблагодарную почву русского художественного самосознания. Вовсе не освещенной осталась и та философская почва, которая питала мысль Чернышевского. Только Владимир Соловьев указал на то, кого надо признать вдохновителем эстетических воззрений молодого тогда критика. Эстетика Чернышевского – эстетика Фейербаха. Если бы провозвестник современного реализма развил мысли, вскользь брошенные им об античной скульптуре, он, вероятно, сказал бы в принципе почти то же, что его русский поклонник [Высказываемые здесь соображения о значении диссертации Чернышевского для Э., как науки, сложилось у автора настоящей статьи под влиянием беседы с А. Н. Пыпиным.]. Фейербах, считавший мир богов воспроизведением желательного для человечества, смотрел, вместе с Винкельманом, на статуи богов как на реальное изображение окружавшей древнего грека действительности. Что же могло при подобном взгляде на религию представлять собой искусство, как не подражание? Чернышевский явился, таким образом, теоретиком реализма еще задолго до его полного расцвета в искусстве.
Истинное значение «Отношений искусства к действительности» обнаруживается с полной очевидностью при сравнении высказанных здесь положений со стройной и своеобразной эстетической системой, созданной Гюйо в 80-х годах, причем философ этот может быть никогда и не слыхал имени Чернышевского и уж, наверное, не знал ничего о его диссертации по Э. Обе книги Гюйо, «Задачи современной Э.» и «Искусство с социологической точки зрения», возникли из ближайшего знакомства с современным искусством, к концу 80-х годов уже развернувшимся с полной силой. Гюйо силится осмыслить это искусство. Он считает его глубоко современным по тому стремлению к правде, которое так законно в век преобладания точных наук. И у Гюйо мы находим категорически выраженными обе центральные мысли Чернышевского. Гюйо говорит: «надо понять, насколько жизнь полнее и шире искусства, чтобы стараться вложить побольше жизни в художественные произведения»; он настаивает на том, что чувство действительности вовсе не может быть противополагаемо красоте, а напротив, если художник бессилен вложить жизнь в свое создание, то в этом сказывается скорее его слабость. Как древнегреческий скульптор, художник ждет, не оживится ли, не заговорит ли изваянная им фигура. С другой стороны, Гюйо считает не только законным, но и необходимым вторжение в сферу искусства некрасивого. Он, правда, оговаривается, что надо избегать тривиального, но введение некрасивого – не неизбежное зло, не прием, к которому иногда приходится прибегать, как это предполагалось раньше, а естественный вывод из всей эстетической системы. Эстетика Гюйо возникла в самой тесной зависимости от его этики. Обоснование ее вытекает из попытки найти принцип этики, расставшись с утилитаризмом и не признавая в то же время ни нравственной санкции, ни нравственного обязательства. В поисках за новым принципом, могущим лечь в основу добра, Гюйо остановился на представлении о «жизни самой интенсивной и экстенсивной» – и ему стало ясно, что никакого другого принципа нет и не надо. Жизнь – вот основная и единственная ценность бытия; ею все управляется, к ней все стремится. Если жизнь мы рассмотрим с точки зрения синергии, когда дело идет о нас самих, и симпатии, когда мы разумеем общество, мы получим требуемый принцип. Организм можно было бы обозначать множественным числом: он представляет собой сложную систему органов, действующих порознь, пока особым усилием они не будут приведены в гармонию. В нас самих уже содержится, таким образом, зачаток общества. Чувство общественности или симпатия есть развитая далее вовне синергия нашей духовной сущности. И чем сильнее жизнь, чем она интенсивнее, тем более возбуждается эта синергия, распространяющаяся вовне, превращающаяся и в симпатию и тем делающая жизнь экспансивной. Интенсивность и экспансивность жизни заключается именно в возбуждении синергии и симпатии. Из этой интенсивности и экспансивности жизни сама собой вытекает мораль, сущность которой состоит в альтруизме, основанном на симпатии. В ней же коренится и эстетическое сознание. «Всякое ощущение вызывает увеличение наших нервных сил». Ощущение, как зрительное, так и слуховое, само по себе уже делает нашу жизнь интенсивнее; вследствие сложности нашего организма, ощущение, особенно приятное, передаваясь в нашем теле и как бы расширяясь в нем, вызывает в нас особую внутреннюю солидарность. Эта солидарность, по мнению Гюйо, и есть чувство красоты. «Приятное, – говорит Гюйо, – становится красивым по мере того, как оно захватывает в нашем существе больше солидарности и общительности между отдельными его частями и между элементами нашего сознания». «Красивое, это – приятное более сложное и более сознательное, более интеллектуальное и волевое». Вся первая часть «Очерка современной Э.» направлена на доказательство этого положения и, что для нас особенно важно, достигается оно, по выражению Гюйо, «расширением границ Э. и увеличением области красивого». Отсюда та строгая критика, которой подвергает Гюйо кантовско-спенсеровские воззрения на прекрасное. Для нас особенно интересны мысли Гюйо о полезном. Вполне допуская антиномию полезного и красивого, Гюйо замечает, однако, что если красивое может вовсе не быть полезным, тем не менее в самой пользе могут заключаться элементы красоты. Когда дело идет о полезных предметах, о всех этих созданиях нашего антиартистического века, мы не можем не признать, что в процессе приложения их, в самом действии их, они вызывают удовольствие, которое нельзя не назвать эстетическим. Несущийся вдали змейкой поезд железной дороги, огромный и быстрый трансатлантический пароход в открытом море – оба вполне справедливо считаются красивыми. Оттого не надо увлекаться теорией игры; этим мы, может быть, даже унижаем искусство. Элементы красивого в полезном красивы именно тем, что они вызывают чувство жизни. Искусство, создавая прекрасное, внушает жизнь уже тем самым, что оно подражает и воспроизводит. Оно вызывает в нас целый сонм образов и расширяет наше сознание, делая его более экспансивным в смысле симпатии со всем этим «гражданством искусства», с которым мы невольно сживаемся. Проникшись созданиями художников, человек живет как бы целым обществом. «Высшая задача искусства, – говорит Гюйо, – произвести эстетическую эмоцию общественного характера». Из этого положения логически вытекает, во-первых, что образы искусства, как к этому и пришел реализм, должны быть живы, т. е. индивидуальны, а не только характерны и типичны; во-вторых, что некрасивое не может и не должно быть избегаемо в искусстве. «Прогресс искусства отчасти определяется симпатичным интересом, направленным на горестные стороны жизни, на все низшие существа, на все мелочное и уродливое. Это одно из расширений эстетического обобществления. В этом отношении искусство развивается вместе с наукой, для которой нет ничего слишком ничтожного и малого и которая охватывает всеуравнивающими своими законами всю природу». Создав и теорию искусства, и Э. на данных реалистического искусства и стремясь придать им тот обобществленный характер, который так соответствует стремлениям века, Гюйо расширил и Э., и искусство, выводя их, совершенно так же, как этого добивался Чернышевский, за пределы установленной красоты. И Чернышевский, и Гюйо, однако, не представляли себе Э. иначе как науку о прекрасном. Не представлял себе ее иначе и Флобер, видевший элементы красоты в каждом атоме бытия. Первоначальное понимание Э. все еще тяготеет над ними. Они не решились еще сформулировать такое ее понимание, которое сделало бы ненужным всякое расширение и раз и навсегда покончило бы и с вопросом об уродливом. Гюйо идет ощупью в сторону современного понимания Э., когда он заговаривает о низшей доле красоты, заключающейся в полезном. Мы подступили теперь к тому моменту в развитии нашей науки, когда ставится вопрос об эстетическом сознании независимо от вопроса о красоте. В высшей степени характерный в этом отношении пример, наглядно показывающий необходимость именно такой постановки вопроса, мы находим в «Очерке современной Э.». Гюйо приводит здесь рассказ Грант-Аллена о том, что живший на берегу моря крестьянин, когда ему хвалили красивый вид, ежедневно расстилающийся перед ним, соглашался с этим мнением, но неизменно оборачивался при этом спиной к морю и лицом к полю капусты, казавшемуся ему действительно прекрасным. Гюйо берет сторону этого крестьянина и готов согласиться, что и в поле капусты есть красота. Правильнее было бы сказать, что поле капусты представляло большую эстетическую ценность в глазах крестьянина, чем море, совершенно не заводя речи о красоте. Как было указано выше, впервые на подобную точку зрения встал Гроос, в «Введении к Э.», в самом начале 90-х годов. «Злосчастное понятие прекрасного растягивали во все стороны, как если бы оно было из резины, единственно по той причине, что считали необходимым обнять им все, что производит эстетическое действие. Прекрасное должно было превратиться в нечто прямо противоположное, разбиваться на части и вновь собираться, пока наконец оно не было растянуто до степени схемы, которая уже почти ни на что не была годна». Теперь пора уже прямо сказать, что «хотя все прекрасное относится к области эстетической, но не все эстетическое прекрасно». Гроосу принадлежит и та мысль, что в этом вопросе «современное искусство практически давно опередило Э.». При всей важности определения Грооса, оно не составляет как бы начала новой эры в развитии Э. В существе дела, мы вовсе не так далеко отошли от Кантовской «Критики силы суждения», как это могло бы показаться с первого взгляда. Мысли Канта останутся для нас основными даже тогда, когда мы расстанемся с формально-сенсуалистической Э., за пределы которой нас выводит учение о трагическом и комическом.
VI. Художественное восприятие
«Критика силы суждения» – этот краеугольный камень нашей науки, как мы видели, отводит эстетическому сознанию промежуточное место между познанием и желанием. К тому же приводит и наблюдение над ролью внимания в процессе художественного восприятия. Что созерцание, эта первооснова художественного восприятия, тесно связана с напряжением внимания – это само собой очевидно. Какое же место занимает внимание в нашем сознании? В обыденной жизни в нас постоянно происходит борьба между произвольным и непроизвольным вниманием и в минуты бездействия или отдыха мы всецело находимся во власти последнего. Всякая работа, всякое занятие и, вообще, всякое движение к чему-либо желательному сопряжено, наоборот, с произвольным вниманием. Оно находится в услужении у нашей воли; через его посредство воля заставляет нас познавать объект своего приложения. Если достижение желания не требует никаких особых усилий познания (как, например, в еде, одевании и т. п.), внимание быстро освобождается и желаемое достигается машинально, т. е. бессознательно. Если же желательное может быть достигнуто лишь с трудом (например, при решении математической задачи), внимание достигает высшего напряжения; пока не совершено требуемое, мы целиком поглощены познаванием. Произвольное внимание тогда окончательно вытесняет непроизвольное; происходит то, что на языке психологов называется сужением поля сознания. Отсюда ясно, что внимание занимает передаточное положение между желанием и познанием. То же самое можно показать и в обратном порядке: само желание невозможно без познания. Непроизвольное внимание сообщает познанию о какой-либо вещи, и если она не вызывает рефлективного движения (как когда мы отгоняем муху), происходит переход от непроизвольного внимания в произвольное и одновременно с этим составляется решение нашей воли о данном предмете. При художественном восприятии наше внимание сознательно и произвольно; оно должно быть также в значительной степени и напряженным. Однако вызванное напряжением воли внимание немедленно освобождается от его гнета, и никакого желания в нас не возникает. С другой стороны, сопряженное с вниманием познание вовсе не настолько интенсивно, чтобы заставить нас проникнуть в глубь вещей. Чернышевский очень метко сравнил наше состояние при художественном созерцании с положением человека, в былые годы ожидавшего на станции, пока перепрягут лошадей. Если в таком положении не возьмет нетерпение, то невольно на досуге станешь осматриваться кругом, причем взгляд будет безучастно спокойным. При созерцании, стало быть, ни наша воля, ни познание рассудком не приложимы иначе как в самой зачаточной форме; в нас наступает затишье чистого восприятия. Это – как бы мертвая точка между познанием явлений и приложением к ним воли. В таком состоянии находимся мы при созерцании художественного произведения. Ведь мы не стремимся вмешаться в развитие драмы, в нас не возникает любовь к изображению красивой женщины. Такое созерцание возможно и по отношению к полезному предмету, причем вызвать его может именно сознание блага, которое оно приносит, как на это указывал Гюйо. Так же точно созерцать можем мы, например, и математическую теорему или философское построение, вызывая их в памяти. Это будет чистейший вид внутреннего созерцания. Первенствующее значение искусства с особенной ясностью обнаруживается тогда, когда мы стоим перед природой. Искусство научило нас направлять внимание на создания природы, не преследуя при этом какой-либо иной цели, кроме самого созерцания. Что именно искусство воспитывает наше внимание в этом отношении – т. е. в отношении «бесцельной целесообразности», скажем мы вслед за Кантом, – это доказывается тем, что при восприятии мы прежде всего обращаем внимание на явления, знакомые нам из произведений искусства: на синеву дали, если мы поклонники Шишкина, на интимную сцену жизни, если мы любим жанр, и т. п. С другой стороны, косвенно подтверждает эту мысль и особая чуткость и внимательность к явлениям жизни, отличающая всякого художника и поэта. Для получения художественного восприятия одного направления эстетического внимания, однако, еще мало. Мы подошли теперь к роли другой нашей духовной способности, которая обыкновенно только одна и кладется в основу эстетического сознания. Внимание находится в самом тесном взаимодействии с воображением. Работу воображения в этом отношении представил совершенно ясно Гроос. «Сначала, – пишет Гроос, – площадь моего сознания подобна огромной картине, освещенной лишь равномерным, но слабым светом луны; все перед моими глазами, но я ничего не могу разобрать. Затем присоединяется деятельность воображения, которую можно уподобить более ограниченному, но зато и более интенсивному источнику света; то место картины, на котором я сосредоточиваю внимание, я вижу ясно и отчетливо, но окружающие части погружаются в еще больший мрак». Воображение как бы делает выбор из хаоса общего впечатления. Самый характер воображения не у всех людей одинаков. Одни обладают красочным воображением, другие склонны к воображению чистых форм, у третьих, наконец, более развито слуховое воображение. Эти индивидуальные особенности в свою очередь влияют на указанное Гроосом особое освещение воспринимаемого. В зависимости от них меняется и самый результат художественного восприятия: он отнюдь не представляет собой самой природы. Природа остается далекой и непознанной; в нас отражается только видимость, этот внутренний образ природы. К положению видимости и стремится эстетическое восприятие. «Эстетическая видимость, – говорит Гроос, – есть продукт воображения, которое из внешнего предмета выделяет для нас внутренний образ, удерживаемый ею лишь благодаря тому, что она односторонне сосредоточивается на известной части чувственного впечатления». Термины видимость и образность для нас особенно важны. Введением их открывается возможность осветить еще две различные особенности художественного восприятия. Шиллеровский термин видимость оттеняет то обстоятельство, что дело идет здесь не о чистых формах, как думал Кант: мы воспринимаем не одни комбинации линий и красок, а напротив, запечатлевая в своем сознании видимость или образ предмета, этим самым получаем и понятие о его сущности. Эстетическое восприятие есть, таким образом, чувственное восприятие форм; вместе с тем оно вторгается и в область понятий или дознания, не претендуя, однако, на полное ознакомление с сущностью, составляющее предмет науки. Мы опять-таки, даже расширив формализм Канта, остаемся, стало быть, на почве его построений, констатируя, что художественное восприятие находится на перепутье между чувством и познанием, подобно тому как оно занимает и промежуточное место между познанием и желанием. Другое существенное следствие, вытекающее из принятия нами термина видимость, заключается в том, что эстетическое восприятие более, чем какое-либо другое, должно представиться нам не пассивным, а напротив, самым коренным образом творческим. Это еще раз дает нам право отождествлять слова эстетический и художественный. То обстоятельство, что результат восприятия в данном случае есть образ или видимость, т. е. нечто новое, иное, нечто, чего в природе нет, нечто, на чем отразились наши, нам одним свойственные особенности воображения, ясно указывает на известную работу или внутреннюю деятельность, без которой эстетическое восприятие немыслимо. Воспринимать природу – значит уже совершать акт художественного творчества; это значит уже до известной степени стать художником. В сущности, художник отличается от человека, способного к созерцанию, только тем, что возникший в нем образ он умеет воспроизвести красками, резцом или словом. Также творчески воспринимаем мы и создания искусства, хотя, казалось бы, в них эстетическая видимость уже совершенно наглядно и ясно всей силой художественного выражения приготовлена для нашего восприятия. И здесь, при восприятии картины или при чтении книги, мы также можем уловить опять-таки лишь внутренний образ, определяемый вторжением своеобразного, присущего нам воображения. Такая особенность восприятия произведений искусств обнаруживается с полной ясностью, когда дело идет о каком-либо старинном произведении; здесь вкладывание в него нашего «я» не может подлежать сомнению. Творческий характер художественного восприятия составляет его основной признак. Этим отличается оно от восприятия вообще. Гроос говорит, что различие между обоими восприятиями – лишь в интенсивности. Что интенсивность несравненно больше при художественном восприятии – это несомненно, и мы увидим дальше, что большей интенсивностью объясняется не одна черта эстетического сознания. Но дело не в одной только интенсивности. Созерцание, лежащее в основе восприятия, сознательно в смысле произвольного и индивидуального каждому человеку по своему свойственному напряженному вниманию; другими словами, оно имеет творческий характер – и в этом внутреннем творчестве заключается то, что Кант называл целесообразностью. Бесцельное во всех других отношениях художественное созерцание все-таки преследует, сознательно или бессознательно, известную цель, которая неминуемо должна отложиться на характере самого восприятия. С точки зрения формально-сенсуалистической Э. цель эта – удовольствие, доставляемое красотой. Так думал Кант, так думали и продолжают думать и его последователи. Человек, промедливший на своем жизненном пути ради художественного впечатления, оказывается вознагражденным. Он даже может славословить мирозданию за эту особенную его целесообразность – красоту-утешительницу. Гораздо сложнее представляется дело, раз что мы признали эстетическое сознание обнимающим и красивое, и некрасивое. Если при открытии эстетической целесообразности мы все-таки захотим остаться на точке зрения формально-сенсуалистической, нам надо будет неминуемо открыть наслаждение, доставляемое эстетической видимостью вообще. На такую точку зрения и встал Гроос; он признал, что и безобразное «игрой внутреннего подражания» становится эстетически приятным; что же касается до красивого, то в нем Гроос видит, вместе с психологами, чувственно-приятное, сохраняющее это свойство и в эстетической видимости. Однако, как ему возразил вполне основательно Липпс, удовольствие от «игры внутреннего подражания» и есть удовольствие от этой игры, и доставляет ли удовольствие сам внутренний образ – при такой постановке вопроса остается невыясненным. Важно дознаться того, в чем состоит наслаждение от внутреннего образа или, точнее, от объекта эстетического восприятия, независимо от вопроса об «игре». На этот вопрос Гроос никакого ответа нам не дает; не дает на него ответа и установленная Кантом целесообразность без цели, раз мы расширили «формально-сенсуалистическую» Э. Бессилие этой Э. обнаружится еще полнее, если обратиться к так называемым формам красоты: трагическому и комическому. Возвращаясь к Гроосу, следует заметить, что переход чувственно-приятного в красивое эстетической видимости далеко еще нельзя признать доказанным; можно даже заподозрить вообще все выводы объективной Э. Ведь самое введение термина видимость в вышеуказанном смысле заставляет нас, перефразируя приведенные слова Гербарта, признать, что «если сущность и существует сама по себе, без отношения к субъекту, то видимость существует лишь для субъекта; не будь субъекта, она тотчас же исчезла бы». Э., как наука о видимости, ни в каком случае не может упускать из вида воспринимающего или создающего субъекта. С точки зрения субъекта мы только и можем разбираться в вопросе о том, что такое красота и безобразие; это – свойства только в нас возникающей видимости. Различие красивого и некрасивого в эстетическом восприятии и творчестве может быть всего правильнее было бы искать, вместе с Кантом, в суждении вкуса, не пытаясь, однако, придавать ему нечто большее, чем чисто субъективное значение. Вкус, несомненно, складывается исторически, и наша наука должна отвести место рассмотрению его развития рядом с историей искусств. Но суждение вкуса, определяющего, что красиво и что некрасиво, всегда останется лишь чем-то подчиненным и второстепенным в эстетическом сознании. Основная эстетическая ценность в самых высших проявлениях художественной деятельности и художественного восприятия всегда была и всегда будет независима от вкуса. Истинное понимание ее всегда тем более облегчается, чем более уже побежденной и превзойденной оказывается узкая гедонистическая точка зрения, неизбежная в формально-сенсуалистической эстетике.