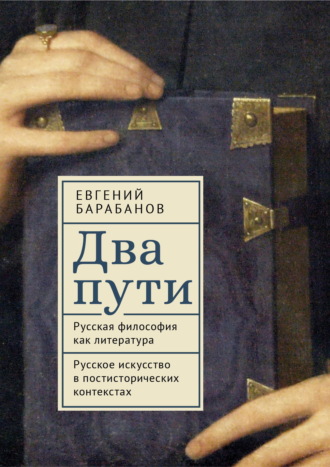
Два пути. Русская философия как литература. Русское искусство в постисторических контекстах
Итак, если территория, этническая, языковая и экономическая общность есть лишь необходимая субстанциальная материя, из которой нация создается посредством формообразующего и упорядочивающего начала культуры, то что же такое государство? Или иначе: каково соотношение национальности и государственности?
Долгое время считалось, что нация и государство органически слиты, что государство есть непосредственное политическое воплощение национальной жизни. Подобное истолкование исходило из метафизической (хотя и не всегда философски осознанной) предпосылки, что в основе исторической жизни народов в качестве главной движущей пружины лежит единая субстанция, воплощающая себя посредством культурных, политических и государственных форм. Наиболее отчетливо эта мысль была выражена Гегелем, для которого всемирная история была изображением божественного, абсолютного процесса поступательного развития Духа в его высших образах, процессам результате которого Дух достигает своей истины и самосознания. Образы этих ступеней представляют собой дух всемирно-исторических народов, определенность их нравственной жизни, государственного устройства, искусства, религии и науки… В марксизме место Абсолютного Духа заступила Историческая Необходимость, сведенная к экономике и классовой борьбе, однако метафизическая предпосылка осталась: общества, их культура и государственное устройство рассматриваются не сами по себе, а сточки зрения их экономической основы («базиса») и соотношения классов. Как и государство («политическая организация экономически господствующего класса для подавления его классовых противников»), нация трактуется не в качестве одного из самостоятельных начал общественного бытия, а в качестве «надстроечной» формы, которая облекает соответствующее социальное содержание. К чему привела эта теория на практике в России всем известно: неудачное экономическое переустройство и безграничное государственное вмешательство подорвали здоровые национальные основы народной жизни и углубили национальную рознь. Коммунистический режим не только не разрешил национального вопроса, но еще более обострил его. Что же касается учения о национальном характере государственности – воззрения, существующего у нас и по сей день, – то опыт советской империи показывает, что определенные формы государственности могут быть не только рождены нацией, но и ей извне навязаны. Именно такова государственность многих «союзных» и «демократических» республик социалистического лагеря.
Опыт советского империализма, а также опыт нацистской Германии убедительно свидетельствуют, что подлинная жизнь нации и государственное устройство могут не только не совпадать, но и вступать между собою в резкие, порой смертельно резкие противоречия. Подмена нации как духовно-культурной категории категориями расовыми и политическими, обожествление нации, ее политизация и отождествление с государственным могуществом не снимают этих противоречий, но лишь углубляют их. Рано или поздно становится очевидным, что необходимая жизненная связь между душой и телом народа нарушена, что государство, пусть даже национальное, вместо того чтобы служить очеловечиванию – господствует над человеком и толкает его к озверению. В этом случае остается единственный путь: возвращение к творческим истокам национальной традиции, к новому ее переосмыслению и продолжению в свете трагического опыта прельщений и отпадений. Путь мужества, смирения и духовной трезвости, путь веры и терпеливого труда.
Смешение государственного начала с началом национальным – один из опаснейших и неизжитых до сего дня соблазнов. В сотом номере «Нового Журнала» Роман Гуль опубликовал любопытный документ о беседе нескольких русских эмигрантов в 1945 году с советским послом в Париже Богомоловым, документ, который может служить прекрасной моделью того, как сознание, пленённое внешней государственной мощью, с роковой неизбежностью приходит к отказу от идеи свободы, культуры и, в конечном итоге, нации. Вот выдержка из речи адмирала М. А. Кедрова:
«Мы боролись с советской властью, особенно офицеры, отстаивая дорогую для нас государственность, которая тогда разрушалась, мы защищали от разложения нашу армию, которая была плоть от плоти, кровь от крови наша. Все обращалось в хаос, в порядке революции и мы встали на защиту разрушаемого. Русский же народ то был с нами, то с вами, но мы проиграли борьбу и ушли за границу, рассчитывая, что русский народ рано или поздно поймет нас и присоединится к нам… Но годы шли и уже в 1936-37 годах я и другие начали сознавать, что в России народилось новое поколение, которое не с нами, а с вами, создается новая государственность, крепнет новая армия – процесс из разрушительного сделался созидательным. В войне с Германией Советский Союз победил – Россия спасена и спасен весь мир. Новая государственность и новая армия оказались необычайно стойкими и сильными и я с благодарностью приветствую и их вождей».
Так же, либо почти так же, думали не только в эмигрантском зарубежье, но и в России. Некоторые думают так и сейчас. Вот, к примеру, исповедь редактора и издателя «русского патриотического журнала «ВЕЧЕ» В. Осипова:
«В прошлом я был материалистом, социалистом и утопистом. Лагерь сделал меня человеком, верующим в Бога, в Россию, в наследство прадедов… В лагере пришлось по-новому взглянуть на роль Джугашвили. Он прекратил антипатриотический и антицерковный шабаш троцкистов, загасил русофобию Покровского, не жалевшего в своей ненависти ничего святого». («Площадь Маяковского»).
Подобные сентенции, порой дословно повторяющие верноподданические восхваления на страницах послевоенной печати, вот уже несколько лет перестали быть редкостью в Самиздате. На наших глазах рождается новая националистическая мифология, косвенно и преломление отражающая глубочайший кризис национального самосознания. Ведь всякому, знакомому с отечественной историей, ясно, что построение «верующего в наследие прадедов» автора ничего общего с действительными историческими фактами не имеют.
В самом деле, нужно ли напоминать, что именно Сталиным на рубеже 1929–1930 годов самым коренным образом уничтожалась основа национального сознания – историческая память. В результате предпринятых им гонений на историю были закрыты все научные учреждения и институты, занимавшиеся историческими исследованиями (Археографическая комиссия Академии наук, Институт Ранион и др.), прекращены издания таких журналов как «Красный архив», «Историк-марксист», «Пролетарская революция», началась невиданная по масштабу вакханалия по изъятию книг. Уничтожались не только история, но и историки. В конце 1929 года была арестована и осуждена большая группа видных историков России таких как академики Е. В. Тарле, С. Ф. Платонов, Б. Д. Греков, С. Лихачев, профессор С. Д. Приселков и др. Все они обвинялись в создании мифической тайной организации, якобы преследовавшей цель свержения советского правительства. При этом никто иной, как «историк-марксист, друг Ленина, М. Н. Покровский выступил как инструмент в руках Сталина по ликвидации истории и историков в СССР, создавая совершенно невозможные условия для работы и ликвидируя одно за другим сохранявшиеся еще исторические учреждения и архивы»… Только в 1934 году были восстановлены исторические факультеты и преподавание истории в школах; тогда же началась и «борьба с ошибками школы Покровского». При этом «русофобия Покровского» «гасилась» крайне своеобразным
образом – с помощью насквозь фальшивого и не менее примитивного чем «труды» Покровского сталинско-ждановского «Краткого курса истории ВКП(б)». Что и говорить, вместе с так называемыми «Замечаниями» Сталина, Кирова и Жданова по поводу нового учебника истории это была достойная замена историческим опытам русофоба-марксиста!
Что же касается «антипатриотического и антицерковного шабаша», то в действительности его прекратил не Джугашвили, а вторая Мировая Война. Только после провала надежд на немецкое «освобождение России от большевизма», когда война стала пониматься большинством населения как национально-освободительная, когда на оккупированной территории стали открываться храмы, а всеобщий религиозный подъем народа достиг невиданного размаха, именно в этот момент для примирения народа с армией и властью стало использоваться наследие русской национальной культуры и истории: Александр Невский и Дмитрий Донской, Суворов и Кутузов были провозглашены «нашими великими предками», учреждались гвардейские части, погоны, георгиевская лента для медалей, ордена Суворова, Кутузова и Нахимова, а с другой стороны, под давлением религиозного подъема населения, открывались храмы и пересматривалось отношение к антирелигиозной пропаганде… Сама же по себе антирелигиозная кампания, начатая еще Лениным и Троцким, продолжалась и после расправы с троцкистами. Эта же, традиционная по задачам и методам, антицерковная борьба велась Сталиным и в странах восточной Европы, оказавшейся после войны в зоне прямого влияния Москвы…
Но вернемся к существу дела: что же заставляет наших патриотствующих авторов, сознательно или бессознательно, фальсифицировать историю? Каким образом трагическая прерывность национального и культурного бытия России превращается в единую линию органического национального развития? Как случилось, что совесть оправдывает то, что не имеет никаких нравственных оправданий?
Ответ на все эти вопросы только в одном – в преклонении перед внешним государственным могуществом, в антихристианском утверждении «первенства государственного интереса над личным».
Как и в любом националистическом движении (вспомним нацистскую Германию или Италию Муссолини), так и в отечественном национал-патриотизме это идолопоклонство перед силой и мощью государства является первичным, изначальным. Именно здесь следует искать корень обид за свое племя и пафос самоутверждения, выпячивание мистики крови и преобладание чувства ущербности, которые вместе со страхами перед идеями широкой политической либерализации и демократизации, вместе с ненавистью к евреям и инородцам, вместе с параноической завороженностью «масонским и католическим проникновением» пронизывают сочинения и декларации национал-патриотов. При такой установке сознания Православие и русская национальная культура понимаются уже не как высшие и безусловные духовные ценности, но лишь как необходимые атрибуты национальной государственности. Отсюда и консервативно-охранительные тенденции, упор на бытовых и этнографических традициях, которые должны, по мысли идеологов, сохранить целостность государственно-племенной жизни.
Думается, нет нужды доказывать, что философия обиды, ксенофобия, натуралистическая и, по существу, антихристианская идеология «чистой расы», господство государственного и племенного целого над личностью, а также сопутствующий всем построениям и декларациям сепаратистский психологический «комплекс малой народности» – все это симптомы кризиса нашего национального самосознания, но отнюдь не начало будущего национального возрождения. Только потеряв всякую связь с духовной и творческой традицией нации, которая дала миру сонм святых и праведников, великолепную архитектуру и икону, глубочайшую литературу и самобытную философскую мысль, можно осознавать себя в качестве «угнетенного меньшинства» и звать к преодоленному всей отечественной историей племенному национализму. Нет, если и суждено России будущее – а мы верим в это, – то начнется оно не в угаре однобокого самоутверждения и обособленности, а в углубленной работе по восстановлению религиозных, культурных и правовых основ национальной жизни, неотторжимых от идей подлинной свободы, правды и справедливости.
Сегодня становится все более очевидным, что разрешение той критической ситуации, в которой находится Россия, невозможно одними лишь политическими средствами; необходимо национальное оздоровление всего общества – вот великая задача, поставленная перед нами силою вещей. Это означает, что национализму и шовинизму, паразитирующим сегодня на здоровом инстинкте национального самосохранения, должны противостоять не отвлеченные политические принципы или субъективные настроения, но целостное национальное сознание, опирающееся на универсальные по своим устремлениям начала христианства и исторического наследия отечественной культуры. При этом должны быть радикально отвергнуты любые попытки связать национальные особенности с каким-то определенным историческим моментом жизни народа. Нация созидается в постоянном творческом процессе жизни и пытаться удержать этот поток посредством шаткой плотины бытовой, этнографической, биологической или какой-либо иной самобытности – значит не только сужать содержание понятия нации, но и утверждать застой самой жизни. Вообще значение самобытности сильно преувеличено идиллически-романтическими мечтаниями и грёзами; на самом деле самобытность не может быть целью ни личной, ни национальной жизни, ибо являет собой естественное и неотъемлемое качество всякого здорового индивидуализированного бытия.
Более правильно было бы говорить не о самобытности, но о национальных традициях, в русле которых и свершается в истории таинственное пресуществление, творческое раскрытие и утверждение индивидуального народного бытия. Традиция – категория более динамичная и исторически-конкретная, через нее осуществляется восстановление оборванных связей, определяются неповторимые черты национального лика. Традиция – это тоже историческая память нации, необходимое условие ее жизненной и творческой силы, настойчивое напоминание, что будущее наше заложено не только в том, как мы ощущаем современность, но и в том, как мы духовно, нравственно и интеллектуально переживаем свою историю. И обратно – через историю, понятую как вечно-живую творческую традицию, прикасаемся мы основоположных, просветляющих все наше бытие источников творчества. Поэтому «пережить историю» – это значит понять ее не только как данность (набор исторических событий), но и как великое творческое задание и долг. Именно в этом и состоит возвращение к национальной традиции, которое менее всего означает реставрацию прошлого.
Подлинная культурная традиция, а вместе с ней и традиция национальная, это не столько фольклор, старинный быт или костюмы, не столько ревностное сохранение уходящего или слепая верность заветам наших предков (возвращение к такой традиции невозможно, да и не нужно), сколько неистребимая сопричастность с единым потоком жизни духа, пронизывающим все бытовые напластования и относительные формы и соединяющим далекое с близким, прошлое с настоящим. Андрей Рублев и Дионисий, Пушкин и Достоевский, Вл. Соловьев и Н. Бердяев – все они наши «вечные спутники», предки и современники одновременно. И в этом духоносном течении своем традиция никогда не умирает, ибо начинается от источника Жизни Вечной и к нему устремлена. Она может угасать, умаляться, из явной стать сокровенной, почти незримой, но не исчезнуть вовсе. Яркий пример тому – наша страна, где борьба с религией и культурой ведется уже более полувека и где вопреки духоборческой политике власти, словно свеча от свечи в пасхальную ночь, разгорается огонь неуничтожимой традиции духовного и культурного делания…
Подсоветская либеральная интеллигенция, воспитанная на гуманистических идеалах западнического толка, смотрит на возрождающийся русский национализм, а вместе с ним и на идею национального возрождения с нескрываемым опасением и даже страхом. Людям, пережившим послевоенный сталинский казенный патриотизм с разгулом антисемитизма и сейчас мерещится, что в сегодняшнем националистическом движении зреет государственная идеология нашего ближайшего будущего – идеология черносотенного погрома, национальной исключительности и борьбы с «безродным космополитизмом».
Нам представляется, что эти опасения не справедливы. Государственный великорусский национализм в рамках существующего коммунистического режима принципиально невозможен ни во внешней, ни во внутренней политике.
Поясним это положение еще одним историческим экскурсом.
До 1917 года основным фактором, создающим единство Российской Империи, была принадлежность всей территории русскому народу, возглавляемому русским царем. После октябрьского переворота положение коренным образом изменилось: в основу объединяющего начала было выдвинуто социально-политическое единство. При этом ликвидация национальной обособленности и политической независимости выступила как одна из основных задач нового социалистического государства. «Целью социализма, – писал Ленин, – является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их». Союз социалистических республик понимался прежде всего как новая форма интернациональной государственности, которая, как указывалось в декрете об организации СССР, стремилась «к постепенному объединению всех стран в одну мировую советскую социалистическую республику». В качестве же противоядия против националистических и сепаратистских устремлений выдвигалась идея солидарности пролетариата и крестьянства разных национальностей перед лицом внешних и внутренних врагов. Доктрина проста до элементарности: объединение народов в одно государство – есть единственная и необходимая гарантия построения социализма перед угрозой всевозможных «происков» врагов нового строя. Классовая ненависть пролетариата и диктатура рабочего класса, которая «не может быть обеспечена иначе, как в форме диктатуры его авангарда, т. е. коммунистической партии» (разъяснения XII съезда КПСС) утверждалась как необходимое условие для упрочения интернационального единства союзных республик.
Из этих общих положений должна быть ясна политика «диктатуры авангарда» в национальном вопросе: всякое национальное или сепаратистское движение внутри социалистического государства есть разрушение государственного единства и потому должно быть немедленно пресечено. Даже умеренный национализм, отстаивающий «национальные по форме», но не «социалистические по содержанию» религиозные и культурные традиции подозревается в скрытом сепаратизме и энергично искореняется.
Эта принципиальная установка остается верной и для наших дней, хотя после второй Мировой Войны положение несколько изменилось: оккупация советскими войсками стран восточной Европы и установление в них коммунистических режимов привело к созданию так называемой «социалистической системы государств». Это новое образование, которое иногда принято называть «коммунистической конфедерацией» (в отличие от коммунистической федерации в пределах СССР), повлекло за собой и возникновение новых тенденций в русле общей идеологии коммунистического интернационализма. Суть этих тенденций, которые после смерти Сталина открыто оформились в концепцию «разных путей построения социализма» или – что одно и то же – «национал-коммунизма», сводится к стремлению стран-сателлитов обеспечить себе политическую, экономическую и национальную независимость. Влияние идей «национал-коммунизма» в рамках общего социалистического лагеря оказалось настолько значительным, что привело даже к некоторой (в основном теоретической) переориентации коммунистического режима в вопросах внешней политики. Так в программе КПСС, утвержденной на XXII съезде, декларировалась независимость и равноправие всех государств и компартий социалистической системы: «В социалистическом лагере никто не имеет и не может иметь каких-то особых прав и привилегий… Коммунистические партии независимы и вырабатывают политику, исходя из конкретных условий своих стран». Однако несмотря на всю эту фразеологию, 1968 год в Чехословакии показал, что идея «национал-коммунизма» внутри системы социалистических государств имеет определенные и весьма строго очерченные границы. Доктрина «ограниченного суверенитета», выдвинутая Брежневым при оккупации Чехословакии, еще раз подтвердила незыблемость установки на интернациональное единство внутри социалистического лагеря.
Однако «верность идеям интернационализма» никоим образом не отменяет официального суррогата национального чувства, который называется «советским патриотизмом» и который настойчиво внедрялся сталинским Агитпропом со времени второй Мировой Войны. Этот же «советский национализм» или «национал-коммунизм», утверждающий социальное и государственно-политическое единство России с насильственно присоединенными народами в пределах СССР, продолжает быть основой и сегодняшней политики коммунистического режима. Достаточно определенно об этом было объявлено на XXII съезде КПСС, который провозгласил теорию построения коммунизма «в отдельно взятой стране» – то есть в государственных границах СССР.
Разумеется, что этот казенный государственный патриотизм, требующий от народа не только послушания, но и искренней преданности своему «авангарду», является не чем иным как бесстыдной эксплуатацией неуничтожимого национального чувства, основанной на последовательной подмене национального начала началом государственным. В нормальных условиях государственное и национальное сознание не противоречат друг другу, а составляют органическое единство. Но другое дело антинародный и антинациональный тоталитарный режим. Государственность оказывается здесь внешней силой, обращенной против всех человеческих ценностей – личности, свободы, культуры, религии, то есть против всех тех основ, на которых зиждется и раскрывает себя национальная жизнь.
Эта уродливая ситуация противостояния бесчеловечного государства и загнанных в подполье национальных и националистических устремлений различных народов чревата серьезным катаклизмом. И в этом убеждает нас не только известный всякому историку культуры неумолимый закон, по которому провинции рано или поздно «съедают» империи, но и те внутренние оппозиционные движения, что с каждым днем все громче заявляют о себе. В некотором смысле история повторяется: как до революции славянофилы, либералы и социалисты расшатывали государственные и имперские основы России, так это делают сейчас националисты (в том числе и русские, славянофильски ориентированные сепаратисты) и радикальные демократы. Существенная разница лишь в том, что сегодня, в отличие от дореволюционной России, закрыты все пути для делового сотрудничества с властью. И не только по причинам нравственным. Тоталитарный режим сам не принимает протянутой ему руки реформистов, усматривая в каждом акте независимой культурной, религиозной или правовой деятельности посягательство на свою целостность. Но как долго смогут удержать внешние скрепы те центробежные силы, которые с каждым днем усиливаются среди разных слоев населения во всех уголках огромной страны? Отсутствие русла для мирного обновления и эволюции государственной, экономической и культурной жизни, рост и обострение националистических тенденций – все это предрекает вероятность драматического распада советской империи.
Не будем гадать о границах будущей России – они не безусловны, ибо Россия нечто большее, нежели границы той или иной ее государственной формы, первичнее нежели демократия, система хозяйственного управления и комфорт цивилизации. Россия – это великая культура, великий язык, великое религиозное творчество. Где пролегают их границы? Сегодня и всегда – в национальном сознании, душе и сердце всякого преданного своей Родине и культуре человека. Здесь же лежат и основы будущей государственности, ибо из отечественной истории мы знаем примеры как исчезала государственность в России, как народ почти на полтора столетия терял свою государственность, но он воскресал и вновь воссоздавал ее, потому что имел великую самобытную культуру, потому что никогда не порывал с нею связи. Сегодня наша национальная культура более чем когда-либо в опасности и только от всех нас зависит, какой выйдет Россия из будущих потрясений.
Вестник русского студенческого христианского движения. 1972, № 106, с. 259–274.
Раскол церкви и мира
За каждой литургией мы исповедуем нашу веру во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Мы верим в ее святость, ибо видим в ней образ присутствия Христа. И уже здесь, на земле, прикасаемся полноты жизни будущего века. Но не только мы – даже многие из неверующих предчувствуют в слове «Церковь» реальность какой-то неведомой и высшей жизни. Желание приблизиться к этой реальности, как-то прикоснуться к ней собирает их у храмов в пасхальную ночь. Они терпеливо ждут полночи, когда издалека, изнутри храма до них донесется пение, когда молящиеся выйдут с крестным ходом и над собравшейся толпой раздастся возглас: Христос воскресе! Они ждут, когда совершится сияющая светом мистерия, которая – как знать? – притянет их тоже к этой глубинной реальности, называемой Церковью, допустит до нее, откроет ее тайну и соединит с их собственной духовной жизнью. Те же, кто непосредственно участвуют в самой мистерии – причастники славы Христа – чувствуют себя победителями. «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!» – воодушевленно поют верующие. И, кажется, в этих пасхальных возгласах Церковь подымается во весь свой рост. Зло мира, его тьма и ложь, грех и насилие повержены Воскресением. И волны всеобщего обновления и радости, которые исходят от празднующего народа, как будто охватывают и неверующих. Кажется, эта победа становится действительной и реальной не где-то за пределами времени и пространства, а здесь, сегодня, сейчас.

