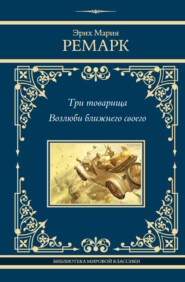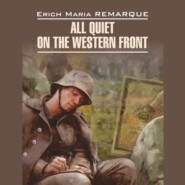По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Три товарища и другие романы
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Теперь уже лучше. Почти прошло. Ром хорош. Но я скоро лягу.
– Ложись немедленно, Пат, – сказал я, – пододвинем стол к кровати, и ты сможешь есть лежа.
Она дала себя уговорить. Я принес ей еще одно одеяло с моей кровати и пододвинул поближе стол.
– Может, сделать тебе настоящий грог, Пат, а? Это помогает еще лучше. Я быстро сделаю.
Пат покачала головой.
– Мне уже лучше.
Я взглянул на нее. Она и в самом деле выглядела лучше. В глазах опять появился блеск, губы налились кровью, матовая кожа ожила.
– Как быстро действует ром, просто фантастика, – сказал я.
Она улыбнулась.
– И постель тоже, Робби. Я лучше всего отдыхаю в постели. Она – мое прибежище.
– Мне это странно. Я бы спятил, если бы мне приходилось ложиться так рано. То есть одному, я хочу сказать.
Она засмеялась.
– У женщин все по-другому.
– Не говори мне про женщин. Ты не женщина.
– А кто же?
– Не знаю. Но не женщина. Если бы ты была настоящая, нормальная женщина, я бы не мог любить тебя.
Она посмотрела на меня.
– А ты вообще-то можешь любить?
– Ничего себе вопросики за ужином! – сказал я. – И много у тебя таких?
– Может, и много. Но что ты ответишь на этот?
Я налил себе стакан рома.
– Твое здоровье, Пат. Возможно, ты и права. Может быть, никто из нас не умеет любить. Ну, так, как когда-то, я хочу сказать. Но может, оно и к лучшему, что теперь все по-другому. Проще как-то.
В дверь постучали. Вошла фройляйн Мюллер. В руках у нее был крошечный стеклянный кувшин, на дне которого плескалось немного жидкости.
– Вот… я принесла вам ром.
– Спасибо, – сказал я, умиленно разглядывая стеклянный наперсток. – Крайне любезно с вашей стороны, но мы уже вышли из положения.
– О Господи! – Она с ужасом оглядела рать бутылок на столе. – Вы так много пьете?
– Только в целях лечения, – произнес я со всей мыслимой кротостью, избегая смотреть на Пат. – Все это прописано врачом. У меня излишняя сухость в печени, фройляйн Мюллер. Однако не окажете ли нам честь?
Я откупорил бутылку портвейна.
– За ваше здоровье! За то, чтобы дом ваш вскоре наполнился постояльцами!
– Премного благодарна! – Она со вздохом отвесила мне легкий поклон и пригубила вино, как птичка. – За то, чтобы вам хорошо отдыхалось! – Потом она лукаво улыбнулась мне. – Однако крепкий напиток. И хороший.
Меня так поразила эта перемена, что у меня чуть не выпал стакан из рук. У фройляйн Мюллер покраснели щечки и заблестели глаза, и она принялась болтать о всякой всячине, нам вовсе не интересной. Пат внимала ей с ангельским терпением. Наконец хозяйка обратилась ко мне:
– Стало быть, господину Кестеру живется неплохо?
Я кивнул.
– Он был такой тихоня в ту пору, – сказала она. – Бывало, за весь день не вымолвит ни словечка. Он и теперь такой же?
– Да нет, теперь он иногда разговаривает.
– Он пробыл здесь около года. И все один…
– Да, – сказал я, – в таких обстоятельствах человек обычно разговаривает меньше.
Она с серьезным видом кивнула и обратилась к Пат:
– Вы, конечно, устали.
– Немного, – ответила Пат.
– Очень, – добавил я.
– Ну тогда я пойду, – всполошилась она. – Спокойной ночи! Приятного сна!
Помешкав, она все же ушла.
– По-моему, она бы не прочь посидеть здесь еще, – сказал я. – Что довольно странно…
– Бедняга, – ответила Пат. – Наверняка сидит вечерами одна в своей комнате и тоскует.
– Да-да, конечно… – сказал я. – Но мне кажется, я был с ней в целом достаточно обходителен.
– Вполне. – Она погладила мою руку. – Приоткрой немного дверь, Робби.
Я подошел к двери и отворил ее. Небо прояснилось, полоса лунного света протянулась от дороги к нам в комнату. Казалось, сад только и ждал, когда же откроется дверь, – с такой силой ворвался к нам ночной запах цветов, сладкий аромат левкоя, резеды и роз. Он залил всю комнату.
– Ты только посмотри, – сказал я.
При усилившемся свете луны садовую дорожку было видно до самого конца. Вдоль нее стояли, склонив головки, цветы; листья отливали темным серебром, а бутоны, игравшие днем всеми цветами радуги, теперь окутались в тона призрачной и нежной пастели. Лунный свет и ночь отняли у красок их силу, зато благоухание стало острее и слаще, чем когда-либо днем.
– Ложись немедленно, Пат, – сказал я, – пододвинем стол к кровати, и ты сможешь есть лежа.
Она дала себя уговорить. Я принес ей еще одно одеяло с моей кровати и пододвинул поближе стол.
– Может, сделать тебе настоящий грог, Пат, а? Это помогает еще лучше. Я быстро сделаю.
Пат покачала головой.
– Мне уже лучше.
Я взглянул на нее. Она и в самом деле выглядела лучше. В глазах опять появился блеск, губы налились кровью, матовая кожа ожила.
– Как быстро действует ром, просто фантастика, – сказал я.
Она улыбнулась.
– И постель тоже, Робби. Я лучше всего отдыхаю в постели. Она – мое прибежище.
– Мне это странно. Я бы спятил, если бы мне приходилось ложиться так рано. То есть одному, я хочу сказать.
Она засмеялась.
– У женщин все по-другому.
– Не говори мне про женщин. Ты не женщина.
– А кто же?
– Не знаю. Но не женщина. Если бы ты была настоящая, нормальная женщина, я бы не мог любить тебя.
Она посмотрела на меня.
– А ты вообще-то можешь любить?
– Ничего себе вопросики за ужином! – сказал я. – И много у тебя таких?
– Может, и много. Но что ты ответишь на этот?
Я налил себе стакан рома.
– Твое здоровье, Пат. Возможно, ты и права. Может быть, никто из нас не умеет любить. Ну, так, как когда-то, я хочу сказать. Но может, оно и к лучшему, что теперь все по-другому. Проще как-то.
В дверь постучали. Вошла фройляйн Мюллер. В руках у нее был крошечный стеклянный кувшин, на дне которого плескалось немного жидкости.
– Вот… я принесла вам ром.
– Спасибо, – сказал я, умиленно разглядывая стеклянный наперсток. – Крайне любезно с вашей стороны, но мы уже вышли из положения.
– О Господи! – Она с ужасом оглядела рать бутылок на столе. – Вы так много пьете?
– Только в целях лечения, – произнес я со всей мыслимой кротостью, избегая смотреть на Пат. – Все это прописано врачом. У меня излишняя сухость в печени, фройляйн Мюллер. Однако не окажете ли нам честь?
Я откупорил бутылку портвейна.
– За ваше здоровье! За то, чтобы дом ваш вскоре наполнился постояльцами!
– Премного благодарна! – Она со вздохом отвесила мне легкий поклон и пригубила вино, как птичка. – За то, чтобы вам хорошо отдыхалось! – Потом она лукаво улыбнулась мне. – Однако крепкий напиток. И хороший.
Меня так поразила эта перемена, что у меня чуть не выпал стакан из рук. У фройляйн Мюллер покраснели щечки и заблестели глаза, и она принялась болтать о всякой всячине, нам вовсе не интересной. Пат внимала ей с ангельским терпением. Наконец хозяйка обратилась ко мне:
– Стало быть, господину Кестеру живется неплохо?
Я кивнул.
– Он был такой тихоня в ту пору, – сказала она. – Бывало, за весь день не вымолвит ни словечка. Он и теперь такой же?
– Да нет, теперь он иногда разговаривает.
– Он пробыл здесь около года. И все один…
– Да, – сказал я, – в таких обстоятельствах человек обычно разговаривает меньше.
Она с серьезным видом кивнула и обратилась к Пат:
– Вы, конечно, устали.
– Немного, – ответила Пат.
– Очень, – добавил я.
– Ну тогда я пойду, – всполошилась она. – Спокойной ночи! Приятного сна!
Помешкав, она все же ушла.
– По-моему, она бы не прочь посидеть здесь еще, – сказал я. – Что довольно странно…
– Бедняга, – ответила Пат. – Наверняка сидит вечерами одна в своей комнате и тоскует.
– Да-да, конечно… – сказал я. – Но мне кажется, я был с ней в целом достаточно обходителен.
– Вполне. – Она погладила мою руку. – Приоткрой немного дверь, Робби.
Я подошел к двери и отворил ее. Небо прояснилось, полоса лунного света протянулась от дороги к нам в комнату. Казалось, сад только и ждал, когда же откроется дверь, – с такой силой ворвался к нам ночной запах цветов, сладкий аромат левкоя, резеды и роз. Он залил всю комнату.
– Ты только посмотри, – сказал я.
При усилившемся свете луны садовую дорожку было видно до самого конца. Вдоль нее стояли, склонив головки, цветы; листья отливали темным серебром, а бутоны, игравшие днем всеми цветами радуги, теперь окутались в тона призрачной и нежной пастели. Лунный свет и ночь отняли у красок их силу, зато благоухание стало острее и слаще, чем когда-либо днем.