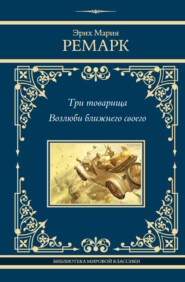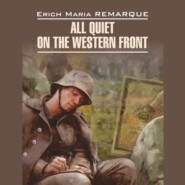По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тени в раю
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Совсем как я. И я стал номером, который носит случайное имя, мелькнуло у меня в голове. Какая успокоительная безымянность; имена приносили мне слишком много неприятностей.
Я бесцельно шел по этому безымянному городу. Грязные испарения его поднимались к небу. Ночью это был мрачный огненный столп, днем – белесый, как облако. Похоже, что именно так Господь Бог указывал в пустыне дорогу первому племени изгнанников, первым эмигрантам. Я шел сквозь бурю слов, шума, смеха, криков, которые глухо бились о мои барабанные перепонки, я слышал гул, не улавливая его смысл. После погруженной во мрак Европы люди казались мне Прометеями – вот потный детина в сполохах электрического света протягивает из дверей магазина руку, увешанную полотенцами и носками, умоляя прохожих купить его товар; вот повар жарит пиццу на огромной сковородке, а вокруг него так и летают искры, будто он не человек, а некое древнее божество. Я не понимал чужую речь, потому от меня ускользал и почти символический смысл пантомимы. Мне казалось, будто все происходит на сцене и передо мной не повара, не зазывалы, не продавцы, а марионетки, которые разыгрывают неведомую пьесу; я один в ней не участвую и угадываю лишь общий ее смысл. Я был в толпе и в то же время чувствовал себя чужим, неприкаянным, отрезанным от людей; нас разделяла не стеклянная стена, не расстояние, не враждебность и не отчужденность, а что-то незримое. Это «что-то» касалось меня одного и коренилось во мне самом. Смутно я понимал: мгновение это неповторимо, оно никогда не вернется – уже завтра острота чувств притупится. И не потому, что окружающее станет мне ближе, – как раз наоборот. Возможно, уже завтра я начну борьбу за существование – буду ползать на брюхе, идти на компромиссы, фальшивить, нагромождая горы той полулжи, из которой и состоят наши будни. Но сегодня ночью город еще являл мне свое неразгаданное лицо.
И вдруг я понял: добравшись до чужих берегов, я отнюдь не избежал опасности, – напротив: именно сейчас она угрожала мне с особой силой. Угрожала не извне, а изнутри. Очень долго я думал только о том, чтобы сохранить себе жизнь. В этом и заключалось мое спасение. То был примитивный инстинкт самосохранения, инстинкт, который возникает на тонущем корабле, когда начинается паника и у человека одна цель – остаться в живых.
Но уже скоро, с завтрашнего дня, а может, даже с этой диковинной ночи, действительность раскроется передо мной по-новому, и у меня опять появится будущее, а стало быть, и прошлое. Прошлое, которое убивает, если не сумеешь его забыть или зачеркнуть. Я понял внезапно, что та корка льда, которая успела образоваться, еще долгое время будет слишком тонкой, ходить по ней опасно. Лед провалится. И этого надо избегнуть. Смогу ли я начать жизнь во второй раз? Начать сначала – познать то, что простирается передо мной, так же, как я познаю этот чужой язык? Смогу ли я начать снова? И не будет ли это предательством, двойным предательством по отношению к мертвым, к людям, которые были мне дороги?
Я быстро повернулся и пошел назад, смущенный и глубоко взволнованный. Теперь я уже не глазел по сторонам. А когда увидел перед собой гостиницу, у меня вдруг радостно забилось сердце. Другие гостиницы лезли вширь и вверх, стараясь быть позаметней, а эта была тихой и незаметной.
Я вошел в вестибюль, уродливо отделанный «под мрамор», и увидел Меликова, дремавшего в качалке позади стойки. Он открыл глаза, и мне на секунду показалось, что у него нет век, как у старого попугая. Потом его глаза поголубели и посветлели.
– Вы играете в шахматы? – спросил он, вставая.
– Как все эмигранты.
– Хорошо. Пойду принесу водку.
Он пошел наверх. Я огляделся. Почему-то мне почудилось, что я дома. Человеку, который давно не имел дома, часто приходят в голову подобные мысли.
II
В английском я делал большие успехи, и недели через две мой словарный запас был уже как у пятнадцатилетнего подростка. По утрам я несколько часов проводил среди красного плюша гостиницы «Ройбен» – зубрил грамматику, а во второй половине дня изыскивал возможности для устной практики. Действовал я без малейшего стыда и стеснения. Заметив, что за десять дней, проведенных с Меликовым, у меня появился русский акцент, я тут же перекинулся на постояльцев и служащих гостиницы. И поочередно усваивал самые разнообразные акценты: немецкий, еврейский, французский. Под конец, сведя дружбу с уборщицами и горничными и уверовав, что они-то и есть стопроцентные американки, я начал говорить с явным бруклинским акцентом.
– Надо тебе завести роман с молоденькой американкой, – сказал Меликов: за это время мы перешли с ним на «ты».
– Из Бруклина? – спросил я.
– Лучше из Бостона. Там всего правильнее говорят.
– Тогда уж надо найти учительницу из Бостона. Это было бы самое рациональное.
– К несчастью, наша гостиница – караван-сарай. Различные акценты носятся в воздухе, как тифозные бациллы, а ты, увы, легко перенимаешь все отклонения от нормы и совершенно глух к нормальной речи. Надеюсь, тебе поможет любовь.
– Владимир, – сказал я, – мир и так уже слишком быстро меняется для меня. С каждым днем мое английское «я» становится на год старше, и, к великому сожалению, мир этого «я» теряет свои чары. Чем лучше я понимаю язык, тем скорее исчезает таинственность. Пройдет еще несколько недель, и оба мои «я» уравновесятся. Американское «я» станет столь же скучно трезвым, как и европейское. Дай срок! И оставь в покое мое произношение. Я не хочу, чтобы мое второе детство пролетело так быстро.
– Не бойся, не пролетит. Пока что твой умственный кругозор равен кругозору зеленщика-меланхолика по имени Аннибале Бальбо, который торгует здесь на углу. Ты уже и так пересыпаешь свою речь итальянскими словечками, они плавают в твоем английском, как волокна мяса в рисовом супе по-итальянски.
– А вообще-то существуют настоящие, коренные американцы?
– Конечно. Но через нью-йоркский порт на город обрушивается лавина эмигрантов – ирландцы, итальянцы, немцы, евреи, армяне и еще десятки разных национальностей. Как там говорят у вас: «Здесь ты человек, здесь ты можешь существовать»[2 - Строка из Гете.]. Здесь ты эмигрант, здесь ты можешь существовать. Эта страна основана эмигрантами. Отбрось свои европейские комплексы неполноценности. Здесь ты снова человек, а не истерзанный комок плоти, прилепленный к собственному паспорту.
Я поднял глаза от шахматной доски.
– Ты прав, Владимир, – сказал я медленно. – Посмотрим, сколько это продлится.
– Не веришь, что это будет длиться долго?
– Как я могу верить?
– Во что же ты веришь?
– В то, что с каждым днем мне становится хуже, – ответил я.
Незнакомый человек, прихрамывая, шел по вестибюлю. Мы сидели в полутьме, и я лишь смутно видел вошедшего. Однако его странная хромота в ритме трех четвертей такта напомнила мне кого-то.
– Лахман, – сказал я вполголоса.
Незнакомец остановился и взглянул в мою сторону.
– Лахман! – повторил я.
– Моя фамилия Мертон, – ответил он.
Я щелкнул выключателем. Из весьма жалкой люстры, представлявшей собою наихудший образец модерна начала двадцатого века, заструился безрадостно-тусклый свет – желтый и синеватый.
– Боже мой! Роберт! – воскликнул вошедший с удивлением. – Ты жив? А я думал, ты уже давно погиб.
– То же самое я думал о тебе. Но узнал тебя по походке.
– По моей хромоте в три четверти такта?
– По твоему вальсирующему шагу, Курт. Ты знаком с Меликовым?
– Конечно, знаком.
– Живешь здесь?
– Нет. Но иногда захаживаю.
– Теперь твоя фамилия Мертон?
– Да. А твоя?
– Росс. Имя осталось то же.
– Вот как люди встречаются, – сказал Лахман, слегка усмехнувшись.
Мы немного помолчали. Всегдашняя тягостная пауза при встрече эмигрантов. Никогда ведь не знаешь, о ком и о чем можно спрашивать. Не знаешь, кого уже нет в живых.
– Ты слышал что-нибудь о Кане? – спросил я наконец.
И это был обычный прием. Сначала осторожно узнать о людях, которые не так уж близки твоему собеседнику.
– Он в Нью-Йорке, – ответил Лахман.
– Он тоже? Как ему удалось перебраться сюда?
– А как все перебирались сюда. Благодаря тысяче случайностей. Никого ведь из нас не было в составленном американцами списке знаменитостей.