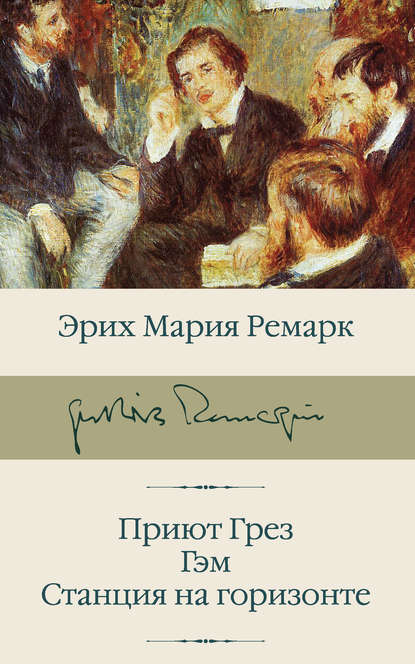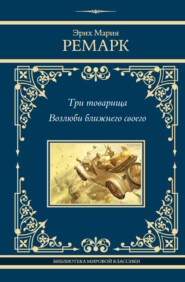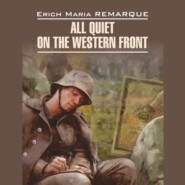По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Приют Грез. Гэм. Станция на горизонте
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Элизабет ужасно смутилась. Значит, это был тот самый Эрнст Винтер, о котором так много рассказывал дядя Фриц. На миг она закрыла глаза, – сама не зная почему. В ней поднялась и тут же опустилась какая-то темная волна. Но легкое чувство тревоги осталось.
– Ну входите же, вы приносите нам весну, а весне нельзя не радоваться. Садитесь вот в это кресло. К сожалению, у нас нет выбора: тот стул по традиции принадлежит Фрицу. Это помпезное кресло – оно всего лишь чемодан, которому тяжелый шелк, столь живописно обтягивающий его, придает некое сходство с княжеским троном, – мое постоянное место. Наши гости раньше сидели на ящике для угля. Видите, это простой дощатый ящик, который Фриц обил элегантной тканью, а сверху подложил еще и мягкую прокладку. Если заглянете внутрь, то сможете заметить там черные алмазы. С ростом благосостояния мы, правда, ничего не изменили в фундаментальных основах Приюта Грез – это было бы нарушением наших принципов, – однако приобрели кое-что новое для наших гостей – например вот это плетеное кресло. Здесь все имеет свое значение и свое право, в том числе и каждая картина на стене, которых тут множество. Самое новое у нас – Окно Сказок, ему всего год. Видите это слуховое окно? Сквозь него вечером светят звезды. Какая поэзия заключена в этом окошке! Какая бездна задушевности таится в нем! Это слуховое окно мы называем Окном Сказок. На стене вокруг нарисовано голубое небо, а на нем – золотые звезды и красные сердца. На каждом сердце написано имя, и каждое имя – напоминание о ком-то дорогом и любимом. Вот тут, с краю, поближе к луне, вы видите бледное сердце в венке из красных роз. Можете прочесть и имя: Лу. – Эрнст указал на портрет в бетховенском углу: – Это ее портрет. Фриц ее очень любил.
– Он мне об этом рассказал, – очень тихо откликнулась Элизабет.
– Значит, он проникся к вам большим доверием. Он вам все рассказал?
– Все.
– Это говорит о многом. Доныне он рассказал все одному лишь мне. Другие знают только то, что Фриц ее очень любил и что она умерла. Многое можно узнать из его стихотворений той поры. Прочитать вам?
Элизабет кивнула.
Моя весна, в тебе вся жизнь,
Ты – счастье в доле человека.
Ты – та звезда, что светит близ
Меня, пока не смежу веки.
Мое ты небо, мой покой,
Мой рай земной навеки.
И будет мир в душе моей,
Коль ты прикроешь веки.
– В свой счастливый час я сочинил музыку на это стихотворение, – добавил Эрнст.
– Вы не дадите мне ноты как-нибудь потом?
– С удовольствием. У Фрица есть рукопись. Я ему скажу. А вот и он сам.
Фриц вошел в комнату.
– Добрый вечер, милая Элизабет. Ну, дети мои, вы уже немного познакомились?
– Хотел бы надеяться, – сказал Эрнст и улыбнулся.
– Весной люди знакомятся намного легче, чем в другое время года, – заметила Элизабет. – Весной все как-то задушевнее, ближе. Не так ли, дядя Фриц?
– Именно так, дитя мое. Причем по весне жизни – в еще большей степени, чем по ее осени. Ну вот. Для Элизабет у меня есть вишни, а для Эрнста – египетские папирусы. Устраивайтесь поудобнее.
Элизабет уютнее уселась в кресло и стала лакомиться вишнями.
– Ну же, Элизабет, какое прекрасное событие случилось у тебя сегодня? Нужно, чтобы каждый день, будь он даже серым и пасмурным, случалось что-нибудь прекрасное. Вечером я часто спрашиваю себя: что прекрасного было у тебя сегодня? И должен заметить: каким бы тягостным ни был день, все же маленький солнечный зайчик всегда показывается. Так что давайте начну с себя. Сегодняшний день принес мне большую радость: приехал мой Эрнст!
– Мой дорогой, мой хороший… – растроганно откликнулся Эрнст и пожал ему руку.
– Теперь твоя очередь, Элизабет.
– Было кое-что. Но самое прекрасное случилось нынче вечером на городском валу у Господского пруда. Я уже собиралась идти к тебе. Вечернее солнце сказочно мерцало сквозь кроны старых лип. Все кругом словно замерло. В реке отражался начинающийся закат, и легкий ветерок ласково тронул ветви деревьев. Было так красиво, что я едва удержалась от слез. О, и еще кое-что случилось! У самого конца вала я остановилась, чтобы бросить взгляд на весеннюю нежную зелень. Тут прямо передо мной на ветке уселась прелестная маленькая птичка, поглядела на меня черными бусинками глаз, покрутила головкой во все стороны и защебетала. Да, и еще кое-что! Навстречу мне попалась пожилая женщина с изможденным морщинистым лицом, которая вела за руку бледного малыша. Тот нес в кулачке несколько цветов. Вдруг он воскликнул: «Смотри, мамочка, какие красивые цветы!» – и протянул их матери. И женщина, озаренная багрянцем заката, улыбнулась… Улыбнулась! Ах, дядя Фриц, что это была за улыбка! О, теперь я больше узнала о жизни… Намного больше. Мир все же прекрасен!
Элизабет даже молитвенно сложила руки перед грудью.
Эрнст был просто околдован. Ему казалось, что в комнату к ним явился эльф или лесная фея – настолько эта девушка была сродни природе. Словно большой ребенок, совершенно не тронутый сомнениями и тяжкими мыслями о причинности и необходимости. Идеально чистое создание, всей душой ощущающее природу, – доброта мира, воплощенная в одном человеке.
– А теперь ты, Эрнст, – сказал Фриц.
– Я ехал по железной дороге. Поезд был переполнен. Поэтому несколько пассажиров, купивших билеты второго класса, набились в наше купе. Но все места были заняты и тут, поэтому им пришлось стоять. Их было четверо, в том числе две девушки. Мне подумалось, что они странствующие актеры варьете. Та девушка, что помоложе, была в самом расцвете юности и красоты, но черты лица ее уже немного расплылись. Она не разговаривала с остальными. Те тоже держались особняком, но было видно, что они очень за нее тревожились. Эти люди вообще по-товарищески относятся друг к другу. Девушка казалась очень усталой. На ее лице лежала печать какой-то странной задумчивости, придававшей всему ее облику впечатление душевной чистоты. Дама, сидевшая рядом со мной, везла с собой болонку, которую посадила на одно из мест. Она даже подхватила руками свои юбки, чтобы они не касались этих людей. Девушка помоложе заметила этот жест, и в уголках ее рта появилась горькая складка. Она казалась обиженной судьбой. Меня все это задело за живое. Я готов был отдать что угодно, лишь бы горькие складки у ее рта разгладились. Я встал и сказал: «Фройляйн, разрешите предложить вам мое место?» Она растерянно взглянула на меня. Две пассажирки в нашем купе – веснушчатые дуры – захихикали. Хотел бы я, чтоб им перепала хотя бы сотая доля той прелести, какой дышало лицо девушки. Уже начиная сердиться, я сказал: «Разрешите повторить мою просьбу?» Девушка едва слышно пролепетала «спасибо» и села. Я взял из ее рук сумку и положил в багажную сетку, причем шелестящая шелковыми юбками собачница выказала такой страх перед возможным соприкосновением с сумкой, что я вышел из себя и заявил: «Сударыня, надеюсь вы позволите занять это место?» – указав рукой туда, где сидела болонка. Собачница бросила на меня гневный взгляд, но ничего не ответила. Я спокойно продолжил: «По правилам, собакам не положено занимать места в обычном купе, их следует помещать в купе для собак, что вам подтвердит проводник». Тот как раз вошел в наше купе и признал мою правоту. Дама демонстративно взяла свою любимицу на колени. Я же не сел, а предложил освободившееся место второй девушке. Продолжая стоять, я наслаждался, глядя, как эту ведьму, оказавшуюся меж двух девиц и брезгливо отряхивавшую свои юбки, распирает от злости. Один из двух мужчин, спутников девушек, заговорил со мной и предложил сигару – вероятно, для того, чтобы выразить свою признательность. Мне очень хотелось отказаться, но я не посмел, чтобы не показаться высокомерным. Я закурил эту сигару, хотя мне от нее едва не стало дурно. Потом я протянул ему одну из моих гаванских сигар, подаренных мне приятелем-студентом. Этот студент был хороший парень. Он учился в лейпцигской консерватории и рассказал мне о ней столько интересного, что я захотел тоже поехать туда учиться. На следующей станции вся компания вышла. И милая барышня, уходя, подарила мне такой взгляд… такой взгляд… Словно лиловый шелк. Это было прекрасно…
Воцарилась тишина. Сумерки заполнили мансарду голубоватым светом, тени сгустились.
– Дядя Фриц, – тихо проронила Элизабет, – стало темно…
Фриц зажег свечи рядом с портретом на стене и поставил перед ним розы.
Мерцающие, дрожащие отсветы пламени свечей упали на портрет, так что казалось, будто он ожил: красивые глаза засветились и розовые губы улыбнулись.
Фриц взял в руки тоненькую папку с рукописями и прочитал:
О, час наш вечерний – только с тобой!
Час нашей встречи тайной.
Сойди же на землю, ангел мой,
И дай мне покой душевный.
Улицы в сумраке, воды тихи,
Страсти желаний угасли.
Те, что родились, тихо ушли
В розах покоя и счастья.
О, час наш вечерний – только с тобой!
Полная светит луна.
Лучший наш час, когда тихо звенит
Вечного счастья струна.
– Вечного счастья струна, – мечтательно повторил Эрнст. – Да, это так – утраченная мелодия, реющая где-то над жизнью, нечто неуловимое, сотканное из надежды на исполнение желаний, рыдающего блаженства и загадок. Часто это нечто кажется забытой песней детских лет, часто – далеким звоном будущего, часто оно звучит загадочно близко, когда поднимаешь дикие безбожные глаза к далеким горизонтам и устремляешься душой в новые страны, а часто доносится, как аромат сирени в тревожной ночи. Это нечто – и холодный снег на глетчерах, и сверкание снежных вершин над горячечным челом, и звездное серебро в раскаленных кратерах воли и тоски. У него нет имени, это и чаши весов, и вечное стремление их уравнять – Великое Оно, которое сильнее всего склоняет нас к душевному миру.
Глаза Элизабет мечтательно светились.
– Великое Оно, – повторила она, и ее голос выдал, насколько Элизабет потрясена услышанным.
– Раньше я говорил Великое Ты, – задумчиво произнес Фриц. – Но это не совсем верно. В нем заключено нечто большее. В нем есть мир и спасение от неразрешимых загадок жизни. Я говорю «спасение», а не «решение», ибо решения нет. Зато есть спасение! Когда над сверлящими и стучащими в голове мыслями разливается приятный покой и мир нисходит на душу, – вот что такое Великое Оно, о котором никто не знает, что это, почему и как… Оно означает все. Без слов и образов. Глубокий покой чувств.
– Храм грез, – вставил Эрнст.
– Оно, – прошептала Элизабет.
Вдалеке пробили башенные часы. Элизабет вздрогнула и поднялась с кресла.
– Мне хотелось бы навсегда остаться здесь, дядя Фриц, но надо идти…