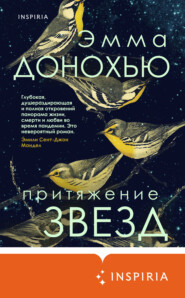По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Падшая женщина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С тех пор в голове у Мэри закрепилась мысль, что Господь – это господин, хозяин всех людей и вещей на земле и что в любой момент он может призвать человека к ответу и проверить, как тот обращается с его имуществом.
Ночами ей снилось, как усатый француз преклоняет перед ней колено, а она прячет лицо за жестким кружевным веером. Шлюха со шрамом с перекрестка Севен-Дайлз качала головой, словно береза на ветру, и алая лента падала прямо в руки Мэри. Она была гладкой, как вода.
– Вставай, девочка!
Каждое утро ее будил голос матери. Мэри должна была вылить в сточную канаву наполненный до краев ночной горшок Диготов, раздуть вчерашний огонь в очаге и поджарить на почерневшей вилке тосты.
– Давай-ка поторапливайся. Твой отец не может прохлаждаться тут весь день.
Как будто он был ей отцом! Доброе отношение Уильяма Дигота к Мэри длилось не дольше, чем его ухаживание за вдовой Сондерс.
– Поди же сюда, разве ты не слышишь, что маленький Билли плачет?
Как будто ей было не все равно!
Мальчик был в десять раз ценнее девочки, Мэри знала это наверняка, хотя никто ей этого не говорил. Однако после рождения сына Сьюзан Дигот, как ни странно, не стала выглядеть более счастливой. Ее локти стали еще острее, а вспышки гнева участились. Иногда она смотрела на свою дочь с настоящей яростью.
– Мне надо кормить четыре рта, – пробормотала она как-то сквозь зубы, – и один из них – здоровой бесполезной девчонки.
Каждое утро, поджидая на углу молочника, – Мэри было велено особенно следить за тем, не кладет ли он в молоко улиток, чтобы оно пенилось, как парное, – она вспоминала самые приятные события своей жизни. Например, тот раз, когда мать взяла ее с собой, чтобы посмотреть на процессию лорд-мэра или салют на Тауэр-Хилл на прошлый Новый год. За завтраком Мэри макала тосты в большую чашку с чаем, чтобы немного их размочить, и представляла себе свое блестящее будущее. По утрам служанка будет вплетать ей в косы алую ленту, и ее волосы будут блестеть, как уголь. И звуки в ее будущем будут совсем другие, не такие, как здесь: флейты, топот копыт, взрывы серебристого смеха.
Весь день в школе, переписывая с доски пра вила и попутно исправляя ошибки своих соседок, Мэри думала о ярких, волнующих красках. Школьные задания не требовали от нее почти никаких усилий, и это было не слишком хорошо. Директриса говорила, что это гордыня, но Мэри считала нелепостью притворяться глупее, чем ты есть. Всегда, с самого начала занятий, учеба давалась ей чрезмерно легко. Вместе со всеми она повторяла вслух правила и молитвы и воображала себе великолепные платья с фижмами и шлейфами в десять футов длиной. Мэри возвышалась над другими, младшими, девочками почти на целую голову.
На земле мы, чтоб трудиться,
Дети не должны лениться.
Она давно затвердила все эти стихи наизусть, так что теперь могла присоединиться к общему хору в любом месте и думать при этом о чем-то совершенно постороннем. Например, пересказывая «Пять правил спасения души», Мэри твердо решила, что, когда станет взрослой, ни за что не будет носить бежевое. Она гнала от себя мысли о пустом желудке, о Господе всемогущем там, в Небесах, о том, что за бремя он для нее приготовил, и о том, сколько лет ей придется это бремя нести. Ту самую Бессмертную Душу, о которой без конца рассуждали учителя, Мэри без колебаний обменяла бы на крохотную толику красоты. На одну-единственную алую ленту.
В сентябре умер старый король Георг, и его место занял молодой король Георг. Уильям Дигот заявил, что теперь все изменится к лучшему. Этот парень, по крайней мере, родился на английской земле, не как его папаша или дед, «и видит бог, мы достаточно навидались этих немцев и их толстых женушек».
Когда отчим уснул на стуле, Мэри осторожно заглянула в газету, лежавшую у него на коленях. Она подозревала, что Уильям Дигот в состоянии прочитать лишь одно слово из трех и что он всего-навсего с грехом пополам разбирает заголовки и разглядывает картинки. Под подписью «Король Великобритании, Ирландии, Гибралтара, Канады, обеих Америк, Бенгалии, Вест-Индии и курфюрст Ганновера» был портрет молодого короля в полный рост. У него было немного нервное лицо, а ляжки, обтянутые бархатными панталонами, показались Мэри гладкими, как рыбы.
У окна, прикусив губу и сгорбившись над шитьем, сидела Сьюзан Дигот. Мэри знала, что мать не интересуется политикой. Пределом ее мечтаний было стать настоящей портнихой, кроить изящные юбки и жакеты вместо того, чтобы по двенадцать часов в день простегивать грубые лоскуты размером шесть на шесть дюймов, работать на хозяина, которого она никогда не видела. Сьюзан и Коб Сондерс выросли далеко отсюда, в городе под названием Монмут; они приехали в Лондон в 1739 году.
– Почему вы с отцом переехали в Лондон? – спросила Мэри. Она старалась говорить тише, чтобы не разбудить угольщика.
– Откуда у тебя в голове берутся такие вопросы? – Сьюзан Дигот на секунду подняла удивленные глаза. Веки у нее были красные. – Мы с Кобом думали найти тут долю получше… а надо было остаться дома. – Ее пальцы, проворные, как мыши, быстро подворачивали край и подрубали ткань. – Это все бесполезно.
– Что – бесполезно?
– Пытаться выбиться в люди, – ровным, бесцветным голосом сказала мать. – Коб и слыхом не слыхивал, что лондонские сапожники давно поделили всех заказчиков. О чем он мечтал, так это о тонкой работе, да только так он ее и не получил. Латать дыры в подметках картоном – вот и все, чего он добился. Ну-ка, сосчитай, сколько здесь штук.
Мэри подошла поближе, опустилась на колени и принялась перебирать квадраты заготовок, подбитые муслином. Когда она думала об отце, то всегда представляла себе этакого сапожника из сказки: вот он сидит, поджав под себя ноги, и постукивает маленьким молоточком, забивая крохотные гвоздики в остроносые бальные туфли. Но все это было неправдой. Напрягая память, Мэри видела его таким, какой он был на самом деле. Очень большим. Огромным.
– В Монмуте Коб не вышел бы на улицы и не позволил бы с собой такое сделать, – добавила Сьюзан и скривила рот. – Там такого кровопролития не было.
Мэри попробовала вообразить это – кровь на вымощенных булыжником улицах Лондона. В прошлом году она видела, как бунтовщики пробегали по Черинг-Кросс, мимо их подвального окна. Башмаки стучали по мостовой, и до Мэри доносились крики «Нет папистам!» и звон разбитого стекла.
– Это было как «Нет папистам»? – с интересом спросила она.
Сьюзан Дигот хмыкнула.
– «Нет папистам!» – это чепуха. Календарные беспорядки были куда хуже. Куда хуже! Бедлам и светопреставление. Ты даже представить себе не можешь. – Она замолчала. Слышался только скрип иголки, продеваемой сквозь ткань. – А что сталось со мной? – спросила вдруг мать и уставилась на Мэри, как будто та знала ответ. – Разве не умела я обращаться с иголкой не хуже моей подруги Джейн? И что теперь? Я ломаю пальцы, по целым дням простегиваю эти лоскуты, словно железная машина, а она, как говорят, шьет платья для знати!
Это Мэри вообразила без труда: платья для знати, яркие и изысканные, словно сочные фрукты на фарфоровом блюде. И алые ленты – по подолу, по рукавам, на стомакерах[1 - Стомакер (наживотник) – деталь одежды, как правило прикреплявшаяся к корсету и платью булавками. Стомакер украшали вышивкой, декоративной шнуровкой, лентами, тесьмой или же каскадом бантов. (Здесь и далее примеч. пер.)].
– А почему бы тебе тоже не стать портнихой, мама? – спросила она.
Мать раздраженно прищелкнула языком.
– И что за чушь лезет тебе в голову, Мэри. Я умею только стегать и подрубать, и больше ничего. И где, по-твоему, мне взять денег, чтобы открыть свое дело? И где тут у нас место для мастерской? Да и глаза у меня уже не те, что прежде. Да к тому же в Лондоне полно портних и без меня. С какой стати людям заказывать платье именно у меня?
Ее голос показался Мэри особенно скрипучим. Вечное недовольство. Она попыталась припомнить, когда мать последний раз смеялась.
– Кроме того, – натянуто добавила Сьюзан, – теперь нас кормит Уильям.
Мэри опустила голову, чтобы мать не видела ее лица.
Она была уверена, что они знавали и лучшие времена. Еще раньше, когда Мэри была совсем маленькой, а ее мать звалась миссис Сондерс. Она смутно припоминала картинку: вот она, Мэри, выздоравливает после лихорадки. Она еще слаба; мать держит ее на коленях. Одной рукой она обнимает Мэри, а другой поит ее с ложечки теплым поссетом[2 - Поссет – горячий напиток из молока или сливок с пряностями, створоженный вином или элем.]. Поссет греет ей горло; Мэри чувствует, как тепло постепенно опускается вниз, к животу. Ложечка была оловянной. Где она теперь? Потеряна или заложена? И еще Мэри помнила Коба Сондерса, его крупную фигуру возле окна, стук молотка, быстрый и четкий, как биение сердца. После ужина в его черной бороде оставались крошки; Коб брал дочку на руки, и она, смеясь, расчесывала ее пальцами. Конечно же она это не выдумала. Воспоминание было слишком ярким и живым. Мэри знала, что высокий рост, темные глаза и волосы она унаследовала от отца. От матери ей достались только проворные, умелые руки.
Даже еда, казалось ей, в те времена была лучше. Как-то у них выдалась неделя, когда в доме было полно всего. Мать получила деньги за большой заказ, и у них на столе появилось свежее мясо и пиво; от возбуждения и изобильной пищи Мэри вырвало прямо на сорочку, но никто не стал ее бранить.
– Так сколько там? – спросила мать.
Мэри вздрогнула и очнулась. Дневной свет уже почти угас. Она взглянула на гору лоскутов у себя на коленях.
– Пятьдесят три, кажется… или пятьдесят четыре, – неуверенно ответила она.
– Пересчитай еще раз, – сварливо бросила мать. – «Кажется» хозяину не ответишь.
Мэри принялась торопливо перебирать лоскуты, стараясь при этом не запачкать их. Сьюзан Дигот склонилась еще ниже. Комнату наполняли сумерки.
– Мама! – спросила вдруг Мэри. У нее появилась новая мысль. – А почему вы не вернулись в Монмут?
Мать пожала плечами:
– Ползти домой на коленях? После всех наших великих планов? Мы с Кобом этого не хотели. Да и он был не из тех, кто отказывается от надежды. Ему нравился Лондон, – презрительно добавила она. – Это ведь он нас сюда притащил.
– Но потом? После смерти отца?
Это было похоже на сказку из книжки. Мэри будто наяву видела себя и мать в черных траурных атласных платьях, в обитой бархатом карете. Они возвращаются в волшебный город Монмут, где воздух всегда свеж и чист, а люди улыбаются друг другу.
Мать покачала головой, как будто внутри жужжала пчела и она хотела ее прогнать.
– Постелил постель – так спи на ней, – сказала она. – Создатель привел меня сюда, и здесь я останусь. Пути назад нет.
И с этим было сложно спорить.
* * *
Ночами ей снилось, как усатый француз преклоняет перед ней колено, а она прячет лицо за жестким кружевным веером. Шлюха со шрамом с перекрестка Севен-Дайлз качала головой, словно береза на ветру, и алая лента падала прямо в руки Мэри. Она была гладкой, как вода.
– Вставай, девочка!
Каждое утро ее будил голос матери. Мэри должна была вылить в сточную канаву наполненный до краев ночной горшок Диготов, раздуть вчерашний огонь в очаге и поджарить на почерневшей вилке тосты.
– Давай-ка поторапливайся. Твой отец не может прохлаждаться тут весь день.
Как будто он был ей отцом! Доброе отношение Уильяма Дигота к Мэри длилось не дольше, чем его ухаживание за вдовой Сондерс.
– Поди же сюда, разве ты не слышишь, что маленький Билли плачет?
Как будто ей было не все равно!
Мальчик был в десять раз ценнее девочки, Мэри знала это наверняка, хотя никто ей этого не говорил. Однако после рождения сына Сьюзан Дигот, как ни странно, не стала выглядеть более счастливой. Ее локти стали еще острее, а вспышки гнева участились. Иногда она смотрела на свою дочь с настоящей яростью.
– Мне надо кормить четыре рта, – пробормотала она как-то сквозь зубы, – и один из них – здоровой бесполезной девчонки.
Каждое утро, поджидая на углу молочника, – Мэри было велено особенно следить за тем, не кладет ли он в молоко улиток, чтобы оно пенилось, как парное, – она вспоминала самые приятные события своей жизни. Например, тот раз, когда мать взяла ее с собой, чтобы посмотреть на процессию лорд-мэра или салют на Тауэр-Хилл на прошлый Новый год. За завтраком Мэри макала тосты в большую чашку с чаем, чтобы немного их размочить, и представляла себе свое блестящее будущее. По утрам служанка будет вплетать ей в косы алую ленту, и ее волосы будут блестеть, как уголь. И звуки в ее будущем будут совсем другие, не такие, как здесь: флейты, топот копыт, взрывы серебристого смеха.
Весь день в школе, переписывая с доски пра вила и попутно исправляя ошибки своих соседок, Мэри думала о ярких, волнующих красках. Школьные задания не требовали от нее почти никаких усилий, и это было не слишком хорошо. Директриса говорила, что это гордыня, но Мэри считала нелепостью притворяться глупее, чем ты есть. Всегда, с самого начала занятий, учеба давалась ей чрезмерно легко. Вместе со всеми она повторяла вслух правила и молитвы и воображала себе великолепные платья с фижмами и шлейфами в десять футов длиной. Мэри возвышалась над другими, младшими, девочками почти на целую голову.
На земле мы, чтоб трудиться,
Дети не должны лениться.
Она давно затвердила все эти стихи наизусть, так что теперь могла присоединиться к общему хору в любом месте и думать при этом о чем-то совершенно постороннем. Например, пересказывая «Пять правил спасения души», Мэри твердо решила, что, когда станет взрослой, ни за что не будет носить бежевое. Она гнала от себя мысли о пустом желудке, о Господе всемогущем там, в Небесах, о том, что за бремя он для нее приготовил, и о том, сколько лет ей придется это бремя нести. Ту самую Бессмертную Душу, о которой без конца рассуждали учителя, Мэри без колебаний обменяла бы на крохотную толику красоты. На одну-единственную алую ленту.
В сентябре умер старый король Георг, и его место занял молодой король Георг. Уильям Дигот заявил, что теперь все изменится к лучшему. Этот парень, по крайней мере, родился на английской земле, не как его папаша или дед, «и видит бог, мы достаточно навидались этих немцев и их толстых женушек».
Когда отчим уснул на стуле, Мэри осторожно заглянула в газету, лежавшую у него на коленях. Она подозревала, что Уильям Дигот в состоянии прочитать лишь одно слово из трех и что он всего-навсего с грехом пополам разбирает заголовки и разглядывает картинки. Под подписью «Король Великобритании, Ирландии, Гибралтара, Канады, обеих Америк, Бенгалии, Вест-Индии и курфюрст Ганновера» был портрет молодого короля в полный рост. У него было немного нервное лицо, а ляжки, обтянутые бархатными панталонами, показались Мэри гладкими, как рыбы.
У окна, прикусив губу и сгорбившись над шитьем, сидела Сьюзан Дигот. Мэри знала, что мать не интересуется политикой. Пределом ее мечтаний было стать настоящей портнихой, кроить изящные юбки и жакеты вместо того, чтобы по двенадцать часов в день простегивать грубые лоскуты размером шесть на шесть дюймов, работать на хозяина, которого она никогда не видела. Сьюзан и Коб Сондерс выросли далеко отсюда, в городе под названием Монмут; они приехали в Лондон в 1739 году.
– Почему вы с отцом переехали в Лондон? – спросила Мэри. Она старалась говорить тише, чтобы не разбудить угольщика.
– Откуда у тебя в голове берутся такие вопросы? – Сьюзан Дигот на секунду подняла удивленные глаза. Веки у нее были красные. – Мы с Кобом думали найти тут долю получше… а надо было остаться дома. – Ее пальцы, проворные, как мыши, быстро подворачивали край и подрубали ткань. – Это все бесполезно.
– Что – бесполезно?
– Пытаться выбиться в люди, – ровным, бесцветным голосом сказала мать. – Коб и слыхом не слыхивал, что лондонские сапожники давно поделили всех заказчиков. О чем он мечтал, так это о тонкой работе, да только так он ее и не получил. Латать дыры в подметках картоном – вот и все, чего он добился. Ну-ка, сосчитай, сколько здесь штук.
Мэри подошла поближе, опустилась на колени и принялась перебирать квадраты заготовок, подбитые муслином. Когда она думала об отце, то всегда представляла себе этакого сапожника из сказки: вот он сидит, поджав под себя ноги, и постукивает маленьким молоточком, забивая крохотные гвоздики в остроносые бальные туфли. Но все это было неправдой. Напрягая память, Мэри видела его таким, какой он был на самом деле. Очень большим. Огромным.
– В Монмуте Коб не вышел бы на улицы и не позволил бы с собой такое сделать, – добавила Сьюзан и скривила рот. – Там такого кровопролития не было.
Мэри попробовала вообразить это – кровь на вымощенных булыжником улицах Лондона. В прошлом году она видела, как бунтовщики пробегали по Черинг-Кросс, мимо их подвального окна. Башмаки стучали по мостовой, и до Мэри доносились крики «Нет папистам!» и звон разбитого стекла.
– Это было как «Нет папистам»? – с интересом спросила она.
Сьюзан Дигот хмыкнула.
– «Нет папистам!» – это чепуха. Календарные беспорядки были куда хуже. Куда хуже! Бедлам и светопреставление. Ты даже представить себе не можешь. – Она замолчала. Слышался только скрип иголки, продеваемой сквозь ткань. – А что сталось со мной? – спросила вдруг мать и уставилась на Мэри, как будто та знала ответ. – Разве не умела я обращаться с иголкой не хуже моей подруги Джейн? И что теперь? Я ломаю пальцы, по целым дням простегиваю эти лоскуты, словно железная машина, а она, как говорят, шьет платья для знати!
Это Мэри вообразила без труда: платья для знати, яркие и изысканные, словно сочные фрукты на фарфоровом блюде. И алые ленты – по подолу, по рукавам, на стомакерах[1 - Стомакер (наживотник) – деталь одежды, как правило прикреплявшаяся к корсету и платью булавками. Стомакер украшали вышивкой, декоративной шнуровкой, лентами, тесьмой или же каскадом бантов. (Здесь и далее примеч. пер.)].
– А почему бы тебе тоже не стать портнихой, мама? – спросила она.
Мать раздраженно прищелкнула языком.
– И что за чушь лезет тебе в голову, Мэри. Я умею только стегать и подрубать, и больше ничего. И где, по-твоему, мне взять денег, чтобы открыть свое дело? И где тут у нас место для мастерской? Да и глаза у меня уже не те, что прежде. Да к тому же в Лондоне полно портних и без меня. С какой стати людям заказывать платье именно у меня?
Ее голос показался Мэри особенно скрипучим. Вечное недовольство. Она попыталась припомнить, когда мать последний раз смеялась.
– Кроме того, – натянуто добавила Сьюзан, – теперь нас кормит Уильям.
Мэри опустила голову, чтобы мать не видела ее лица.
Она была уверена, что они знавали и лучшие времена. Еще раньше, когда Мэри была совсем маленькой, а ее мать звалась миссис Сондерс. Она смутно припоминала картинку: вот она, Мэри, выздоравливает после лихорадки. Она еще слаба; мать держит ее на коленях. Одной рукой она обнимает Мэри, а другой поит ее с ложечки теплым поссетом[2 - Поссет – горячий напиток из молока или сливок с пряностями, створоженный вином или элем.]. Поссет греет ей горло; Мэри чувствует, как тепло постепенно опускается вниз, к животу. Ложечка была оловянной. Где она теперь? Потеряна или заложена? И еще Мэри помнила Коба Сондерса, его крупную фигуру возле окна, стук молотка, быстрый и четкий, как биение сердца. После ужина в его черной бороде оставались крошки; Коб брал дочку на руки, и она, смеясь, расчесывала ее пальцами. Конечно же она это не выдумала. Воспоминание было слишком ярким и живым. Мэри знала, что высокий рост, темные глаза и волосы она унаследовала от отца. От матери ей достались только проворные, умелые руки.
Даже еда, казалось ей, в те времена была лучше. Как-то у них выдалась неделя, когда в доме было полно всего. Мать получила деньги за большой заказ, и у них на столе появилось свежее мясо и пиво; от возбуждения и изобильной пищи Мэри вырвало прямо на сорочку, но никто не стал ее бранить.
– Так сколько там? – спросила мать.
Мэри вздрогнула и очнулась. Дневной свет уже почти угас. Она взглянула на гору лоскутов у себя на коленях.
– Пятьдесят три, кажется… или пятьдесят четыре, – неуверенно ответила она.
– Пересчитай еще раз, – сварливо бросила мать. – «Кажется» хозяину не ответишь.
Мэри принялась торопливо перебирать лоскуты, стараясь при этом не запачкать их. Сьюзан Дигот склонилась еще ниже. Комнату наполняли сумерки.
– Мама! – спросила вдруг Мэри. У нее появилась новая мысль. – А почему вы не вернулись в Монмут?
Мать пожала плечами:
– Ползти домой на коленях? После всех наших великих планов? Мы с Кобом этого не хотели. Да и он был не из тех, кто отказывается от надежды. Ему нравился Лондон, – презрительно добавила она. – Это ведь он нас сюда притащил.
– Но потом? После смерти отца?
Это было похоже на сказку из книжки. Мэри будто наяву видела себя и мать в черных траурных атласных платьях, в обитой бархатом карете. Они возвращаются в волшебный город Монмут, где воздух всегда свеж и чист, а люди улыбаются друг другу.
Мать покачала головой, как будто внутри жужжала пчела и она хотела ее прогнать.
– Постелил постель – так спи на ней, – сказала она. – Создатель привел меня сюда, и здесь я останусь. Пути назад нет.
И с этим было сложно спорить.
* * *