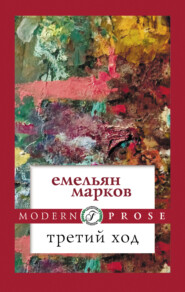По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Маска
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тогда ладно. Это – может быть.
– Ну вот ты и сдался. И затомился, и заупрямился, как единорог!
– При чем тут единорог? Сказал бы просто: как осел.
– Единорог – животное сказочное, чудесное, отчасти эсхатологическое. А ты такой и есть, мамочка.
– Вот уж я и единорог, здрасте, приехали! Мне как раз этого для полного счастья не хватало. Ты, пока человека не выведешь из себя, не вывернешь его наизнанку и не приставишь ему рог – не успокоишься.
– Я просто хочу как лучше. Я ведь бескорыстно.
– Что бескорыстно – понятно. Но для чего, для чего? Человек обижен. И дальше что? Беспримесное страдание? А так ли уж верно, что страдания исцеляют человека? Если исцеляют, то должны ли они быть вот такие экспромтные, такие фокуснические, как услуженные тобой? Уверяю тебя, человеку в жизни – хватает. Каждый человек рождается и умирает. Этой трагедии и этого величия всякому за глаза хватит.
– И что теперь делать?
– Неужто издеваться?
– Хорошо, если не издеваться, то что?
– Уважать друг друга.
– А если, издеваясь, я как раз и плачу над тобой от уважения?
– Пинками такого плакальщика!
– Меня?
– Не тебя… Да хотя бы и тебя, в крайнем случае!.. Или ты меня. Всё лучше.
– Конечно, лучше. Я о том и говорю. Помнишь, в классе пятом, я после летних каникул пришел к тебе и обнял тебя в дверях?
– Помню.
– Что ты тогда почувствовал?
– Натужность.
– Вот-вот. А я ведь был совершенно искренен. А когда я, как ты говоришь, издеваюсь, что чувствуешь?
– Обиду, что.
– Натужную?
– Нет, вполне естественную.
– То-то. Я о том и толкую.
– Да, но есть другие варианты.
– Какие же?
– Просто уважать друг друга.
– Опять – уважать… Люди, знаешь, они, если не делают мелкую подлость открыто, простодушно, то, значит, готовят подлость крупную.
– Это уже не люди, а г на блюде. Я не очень понимаю всего того, что ты говоришь. Но – когда ты успел так в людях изувериться? Неужели так сильно в них верил, что так, в одночасье, разуверился? И веришь в одни подковырки.
– Но ведь ты меня и сам сейчас подковырнул.
– Да я не подковыривал…
– А, понимаю: ты прослезился. Ну слезись, слезись. Только, прошу тебя, не от зависти.
– Я тебе и завидую, и не завидую.
– Вот и правильно! Камень с сердца сошел.
– Твое счастье, что я тебя до конца не понимаю.
– И твое в том же: что ты меня не понимаешь. Да… А я понимаю, что как поймешь что-нибудь, самое простое, пустяшное, сразу оказываешься в дураках, ощущение, будто тебя разыграли. Следовательно, лучше разыгрывать самому.
– Себя, – уточнил Женя.
– Себя – в том числе.
– Но сколько веревочке не виться…
– Это если у веревочки концы не связать. У Лобачевского было двенадцать детей. Он и доказал, что параллельные линии пересекаются. Только с двенадцатью чадами такая мысль может прийти в голову. А ты про веревочку.
– А я про веревочку, – согласился Женя.
Бутылка опустела, понадобилась другая: еще надежней, такая потребовалась, которая встала бы твердыней, как волнорез перед вечерним штормом чувств и предчувствий. Сходили вполоборота друг к другу, как жонглеры, за второй. Вернулись, устроились с бокалами вольготно: Женя погрузился в кресло, Филя раскинулся на тахте.
– Ты – чудо, – как бы оправдываясь, рассуждал Женя.
– Откуда ты меня знаешь? – с загадочной жаждой спросил Филя.
– И я скоро забуду, что ты чудо, – пообещал Женя. – Ты меня переоцениваешь. Точнее, не забуду… Не совсем забуду. Буду знать, что где-то влачит существование мой дружок, который безусловно чудо. Но эта мысль будет досаждать мне, томить меня в неволе.
– Ты что, совершил какое-нибудь преступление, что собрался в неволю?
– Я о другой неволе.
– А! Ты скоро женишься?
– Да, я скоро женюсь. И у меня дурные предчувствия. Я схожу с ума от предчувствий, тем страстнее хочу жениться.
– Нельзя ли тебе пожить с женщиной просто так?
– Ну вот ты и сдался. И затомился, и заупрямился, как единорог!
– При чем тут единорог? Сказал бы просто: как осел.
– Единорог – животное сказочное, чудесное, отчасти эсхатологическое. А ты такой и есть, мамочка.
– Вот уж я и единорог, здрасте, приехали! Мне как раз этого для полного счастья не хватало. Ты, пока человека не выведешь из себя, не вывернешь его наизнанку и не приставишь ему рог – не успокоишься.
– Я просто хочу как лучше. Я ведь бескорыстно.
– Что бескорыстно – понятно. Но для чего, для чего? Человек обижен. И дальше что? Беспримесное страдание? А так ли уж верно, что страдания исцеляют человека? Если исцеляют, то должны ли они быть вот такие экспромтные, такие фокуснические, как услуженные тобой? Уверяю тебя, человеку в жизни – хватает. Каждый человек рождается и умирает. Этой трагедии и этого величия всякому за глаза хватит.
– И что теперь делать?
– Неужто издеваться?
– Хорошо, если не издеваться, то что?
– Уважать друг друга.
– А если, издеваясь, я как раз и плачу над тобой от уважения?
– Пинками такого плакальщика!
– Меня?
– Не тебя… Да хотя бы и тебя, в крайнем случае!.. Или ты меня. Всё лучше.
– Конечно, лучше. Я о том и говорю. Помнишь, в классе пятом, я после летних каникул пришел к тебе и обнял тебя в дверях?
– Помню.
– Что ты тогда почувствовал?
– Натужность.
– Вот-вот. А я ведь был совершенно искренен. А когда я, как ты говоришь, издеваюсь, что чувствуешь?
– Обиду, что.
– Натужную?
– Нет, вполне естественную.
– То-то. Я о том и толкую.
– Да, но есть другие варианты.
– Какие же?
– Просто уважать друг друга.
– Опять – уважать… Люди, знаешь, они, если не делают мелкую подлость открыто, простодушно, то, значит, готовят подлость крупную.
– Это уже не люди, а г на блюде. Я не очень понимаю всего того, что ты говоришь. Но – когда ты успел так в людях изувериться? Неужели так сильно в них верил, что так, в одночасье, разуверился? И веришь в одни подковырки.
– Но ведь ты меня и сам сейчас подковырнул.
– Да я не подковыривал…
– А, понимаю: ты прослезился. Ну слезись, слезись. Только, прошу тебя, не от зависти.
– Я тебе и завидую, и не завидую.
– Вот и правильно! Камень с сердца сошел.
– Твое счастье, что я тебя до конца не понимаю.
– И твое в том же: что ты меня не понимаешь. Да… А я понимаю, что как поймешь что-нибудь, самое простое, пустяшное, сразу оказываешься в дураках, ощущение, будто тебя разыграли. Следовательно, лучше разыгрывать самому.
– Себя, – уточнил Женя.
– Себя – в том числе.
– Но сколько веревочке не виться…
– Это если у веревочки концы не связать. У Лобачевского было двенадцать детей. Он и доказал, что параллельные линии пересекаются. Только с двенадцатью чадами такая мысль может прийти в голову. А ты про веревочку.
– А я про веревочку, – согласился Женя.
Бутылка опустела, понадобилась другая: еще надежней, такая потребовалась, которая встала бы твердыней, как волнорез перед вечерним штормом чувств и предчувствий. Сходили вполоборота друг к другу, как жонглеры, за второй. Вернулись, устроились с бокалами вольготно: Женя погрузился в кресло, Филя раскинулся на тахте.
– Ты – чудо, – как бы оправдываясь, рассуждал Женя.
– Откуда ты меня знаешь? – с загадочной жаждой спросил Филя.
– И я скоро забуду, что ты чудо, – пообещал Женя. – Ты меня переоцениваешь. Точнее, не забуду… Не совсем забуду. Буду знать, что где-то влачит существование мой дружок, который безусловно чудо. Но эта мысль будет досаждать мне, томить меня в неволе.
– Ты что, совершил какое-нибудь преступление, что собрался в неволю?
– Я о другой неволе.
– А! Ты скоро женишься?
– Да, я скоро женюсь. И у меня дурные предчувствия. Я схожу с ума от предчувствий, тем страстнее хочу жениться.
– Нельзя ли тебе пожить с женщиной просто так?