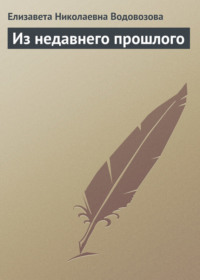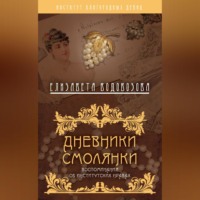Василий Иванович Семевский
Если Василий Иванович был чем-нибудь обязан кому бы то ни было, чувство долга и признательность перед таким лицом постоянно давали ему себя чувствовать. Обостренная впечатлительность делала его по временам мрачным, замкнутым, рассеянным и нередко доводила его нервы до сильного расстройства. Но когда проходило тяжелое настроение, он становился более оживленным и бодрым и сообщал мне, что в данное время ему особенно хорошо работается. Я шутливо замечала, что такая перемена, вероятно, результат «капитальной уплаты долга кому-нибудь». В такие минуты Василий Иванович острил, подсмеивался над собою, а факты, которые я узнавала от него же, обыкновенно подтверждали мое предположение.
Однажды он заговорил со мною о необходимости возвратить брату Михаилу все то, что он потратил на него. Я доказывала ему, что это немыслимо высчитать, что уроки, за которые он получал вознаграждение, вероятно, без малого покрыли все расходы Михаила Ивановича, что если бы каждый стал проводить в жизнь его точку зрения, то должен был бы выплачивать родителям всю ту сумму, которую они потратили на него со дня его рождения, но что и в таком случае счет был бы несправедливым и неправильным, так как оценить заботы родителей, их бессонные ночи и страдания за время воспитания ребенка – немыслимо.
– Брат Михаил не обязан был ни содержать меня, ни давать более основательное образование, чем предназначила мне судьба, – отвечал он.
В конце концов он то же высказал и своему брату. Это, видимо, так поразило Михаила Ивановича, что он, рассказывая знакомым о признании своего брата, старался подчеркнуть, что у Василия Ивановича совершенно исключительная натура. «Люди обыкновенно не помнят добра, а Вася, несмотря на полный разрыв между нами дипломатических сношений (так называл он свою ссору с братом, продолжавшуюся несколько лет), прямо говорит, что он обязан только мне своим образованием». Но нравственное удовлетворение не помешало Михаилу Ивановичу перенести это дело на практическую почву. Он предложил брату большую работу для журнала «Русская старина», говоря, что она своевременно будет оплачена. Но Василии Иванович наотрез отказался от какого бы то ни было вознаграждения и был очень счастлив, что мог наконец расплатиться с ним; радовало его и то, что работа была хотя и очень большая, но не спешная.
Однако были случаи, когда Василий Иванович оставался вечным должником, и тогда уже он никогда не мог выбросить из сознания и души тяжесть долга, что его мучительно тяготило.
Из Петропавловской крепости (1905 год), в которой Василий Иванович просидел две недели, его перевели в Выборгскую одиночную тюрьму, в больницу. Когда я узнала об этом, я отправилась в жандармское управление навести справку о причине его перевода. Я знала, что многие с трудом добивались, чтобы арестованного, даже когда он начинал хворать, переводили в тюремную больницу. Я решила, что Василий Иванович серьезно захворал, если его отправили туда без хлопот. В жандармском управлении мне сообщили следующее: доктор Петропавловской крепости при первом освидетельствовании здоровья Василия Ивановича нашел его в крайне нервном состоянии и заявил администрации, что его долго держать в крепости не следует. Василию Ивановичу лично была неизвестна причина его перевода, и в первое же свидание со мною он спрашивал меня об этом. Во время его пребывания в Выборгской тюрьме одно обстоятельство так потрясло его нервы, что, вероятно, роковым образом отразилось бы на его здоровье, если бы ему пришлось пробыть в ней месяц-другой, а не полторы недели. Дело в том, что он подговорил одного надзирателя передать мне его письмо и доставить ему мой ответ, на что тот согласился. Между тем в ту минуту, когда ко мне явился надзиратель (о чем Василий Иванович не мог предупредить меня), в нашей квартире происходил уже второй обыск после его ареста, видимо вызванный следующим обстоятельством. Уже после того, как арестованного Василия Ивановича повезли в тюрьму, обыск еще долго продолжался в его кабинете. Домашние не могли войти туда, так как каждый из них должен был оставаться в своей комнате под надзором полиции. Только уже под конец обыска моему сыну удалось через толпу «ночных посетителей» прорваться в кабинет, куда и я последовала за ним. Но полицейские уже кончали свое дело и начали прикладывать печати к дверям изнутри. Вместе с ними пришлось выйти и нам. Наложены были печати к дверям кабинета и с наружной стороны. Дни стояли очень холодные, а между тем мы не могли топить самую большую комнату нашей квартиры, так как она отапливалась из кабинета, замкнутого и запечатанного. Я подала об этом заявление как в жандармское управление, так и в департамент полиции, а мой сын жаловался еще и на то, что обыск У Василия Ивановича и составление протокола происходили без присутствия домашних, и добавил, что в таких случаях у арестованного нередко выкрадывают деньги. И вот к нам опять нагрянули полицейские, жандармы и понятые в весьма внушительном количестве.
– Где ваш сын? – спросил меня жандармский полковник.
Я отвечала, что его нет дома, а где он, не знаю.
– Он изволил всюду рассказывать, что жандармы и полицейские обкрадывают при обысках. Он за это ответит! А теперь потрудитесь показать, где хранятся деньги вашего мужа, и сообщить, сколько их не хватает.
Я отвечала, что не знаю ни того, ни другого. Полицейские начали срывать печати с дверей, а затем вся орава двинулась в кабинет. У меня потребовали ключи от столов и шкапов, но я отвечала, что они находились у моего мужа, а где они теперь – не знаю. По приказанию жандарма привели слесаря с отмычками. Когда открыли все ящики столов и шкапов, слесарь приблизился к жандарму и потребовал плату за работу, а тот, обращаясь ко мне, произнес повелительно:
– Извольте заплатить.
– Как! вы взломали замки и думаете, что я буду еще за это расплачиваться?
Жандарм сердито вытащил из портмоне двугривенный и бросил его на стол.
– Маловато, ваше благородие… За восемь замков…
– Убрать его, – закричал жандарм, но слесарь быстро выскользнул в дверь без провожатого. Тогда жандармский полковник, выдвигая ящики столов один за другим и, вероятно, еще более раздосадованный тем, что находил их переполненными рукописями, то и дело обращался ко мне со словами: «Потрудитесь указать, где лежат ваши деньги». Он перерыл все столы, но не нашел никаких денег. (Кстати замечу, что позже, когда Василий Иванович возвратился из тюрьмы, он нашел в целости 150 рублей золотом: они лежали у него в конверте в том ящике, в котором особенно усердно рылся жандарм.) Раздосадованный, он подошел к книжным полкам, куда обратились все взоры людей, которых он с собою привел.
– Живо достать три книги посреди второй полки, а здесь снимайте вот эти с третьей полки… – командовал он, и все устремились с рвением исполнять его приказания.
Я вышла из кабинета – мне никто ничего не заметил, и я только позже вспомнила, что я оставила дверь приоткрытою. Проходя мимо передней, я вдруг услыхала, что кто-то без звонка дернул дверь за ручку. Я быстро открыла ее и увидела перед собою незнакомого человека высокого роста.
– Я пришел купить книги в книжном складе, – сказал он мне, нагибаясь к моему уху, и прошептал: – От вашего мужа.
Я указала ему дверь книжного склада, которая приходилась почти против двери кабинета, но заметила, что он, сделав несколько шагов, вдруг весь задрожал. Я толкнула его в книжный склад, замкнула его, положила ключ в карман и отправилась в кабинет. Там все присутствующие были заняты книгами, стаскивали их с полок, подносили для осмотра жандармскому полковнику и вытягивали все, что попадалось под книжными полками, но там оказывались все книги и книги.
– Мне пора уходить! Тут нужен месяц, чтобы все осмотреть, – заявил взбешенный полковник, и наконец все наши «посетители» вышли.
Через несколько минут я вошла в книжный склад и застала надзирателя еле живого: он сидел на полу между шкапами и едва мог подняться: руки и ноги его дрожали, он долго не мог вымолвить ни слова; наконец проговорил:
– Оба жандарма знают меня в лицо. Приметили бы… И не миновать виселицы!
Я спросила его, не давал ли ему Василий Иванович письма для передачи мне. Он тут только вспомнил о нем и указал мне на одну книгу, в которую он будто бы засунул его. Но письмо валялось на полу. Я сказала, что напишу ответ, по он наотрез отказался ждать еще хотя несколько минут ввиду того, что жандармский полковник, может быть, и заметил его, но счел долгом промолчать до поры до времени. Когда я, чтобы вознаградить его за услугу, протянула к нему деньги, он отстранил их рукой и отрицательно покачал головой, но мне все-таки в конце концов удалось уговорить его исполнить мою просьбу.
Крайне перепуганный вид надзирателя, его попытки убежать от меня ежеминутно помешали мне попросить его избавить моего мужа от пересказа ему только что случившегося, – я знала, что это произведет на Василия Ивановича самое удручающее впечатление.
Когда через два-три дня после этого наступило время моего свидания с мужем, меня провели в большую светлую комнату. В ней никого не было, кроме священника, который сидел за столом и торопливо что-то писал. Я подумала, что попала не туда, куда следует. Мне приходилось много раз иметь свидания с арестованным сыном, узнавать и от других, при какой обстановка происходят эти свидания, но я никогда не слыхала, чтобы при них присутствовал священник. Объяснение этого я получила позже: в тот день в Выборгской тюрьме служащие были сильно заняты, а Василия Ивановича уже решено было выпустить. Не знаю, что более помогло быстрому его освобождению из тюрьмы: всевозможные ли хлопоты о нем разных лиц или заявление психиатра Тимофеева о том, что дальнейшее пребывание в тюрьме такого нервного субъекта, как Семевский, значило толкать его на верную психическую болезнь, но видимо, что в минуту нашего свидания на него уже смотрели как на человека более или менее свободного, а тюремному священнику приходилось писать что-то неотложное.
Когда Василий Иванович вошел в комнату, в которой я ожидала его, я была поражена его видом: бледный, осунувшийся, с темными пятнами под глазами, он как-то рассеянно посматривал во все стороны, а как только подошел ко мне, громко заговорил, забывая всякую предосторожность: «Я подвел человека! Что мне делать, что мне делать!» – говорил он в отчаянии, ломая руки. Я поняла, что смотритель умудрился передать ему инцидент, происшедший с ним в нашей квартире. Но в эту минуту священник привстал с своего места и с досадою в голосе произнес: «Прошу мне не мешать своими разговорами… Идите в тот конец!..» Мы уселись в уголок и начали беседовать. Я старалась успокоить Василия Ивановича, указывая ему на то, что ему нечего убиваться, так как прошло уже несколько дней после этого происшествия, а смотритель цел и невредим; что же касается его собственного дела, то оно складывается, видимо, весьма благоприятно для него. Но Василий Иванович был занят только одним: он то и дело перебивал меня просьбою подумать о том, что бы можно было сделать для надзирателя, которого он так «подвел».
– Боже мой, ведь эта мысль изгложет меня! Подумай, умоляю тебя, подумай, что бы мне сделать для него?
Я возвратилась домой в ужасе при мысли о том, что произойдет с Василием Ивановичем, если ему еще долго придется сидеть в тюрьме. Все бывшие у меня тогда связи уже были пущены в ход, и я принялась писать письма к знакомым с просьбою приехать ко мне на другой день, рассчитывая, что кто-нибудь из них даст мне совет насчет дальнейших хлопот. Вдруг в мою комнату вошел профессор Г. В. Хлопин, которого Василий Иванович глубоко уважал и высоко ценил, как человека неподкупно честного и прямого. Он приехал порадовать меня известием, что Василия Ивановича выпустят из тюрьмы сегодня же. Днем не могли этого сделать потому, что ожидали форменную бумагу от соответственного начальства, без которой тюремные власти не имеют права выпускать заключенных.
И действительно, Василий Иванович возвратился через несколько часов, хотя было уже около полуночи. Он очень оживленно рассказывал мне, как неожиданно для него совершился его выход, но вдруг замолчал и спросил, не придумала ли я чего-нибудь для смотрителя, чтобы хотя несколько вознаградить его за тот смертельный страх, который он заставил его пережить.
Это дело чрезвычайно долго терзало его душу: он собирался то лично отправиться к смотрителю, чтобы поближе познакомиться с его семейным положением, то по почте отправить ему деньги, но знакомые решительно отсоветовали ему делать это, чтобы не повредить надзирателю.
Так прожил Василий Иванович всю жизнь без уклонов в сторону: он шел прямою дорогою, ни на шаг не отступая ни от раз намеченной цели, ни от того, что диктовала ему совесть. Сочувствие к каждому, попавшему в беду, уже в молодости прочно укрепило в его сознании чувство долга самой высшей пробы и ценности. Высокогуманное отношение ко всем людям без различия их социального положения диктовали ему не только его благородные принципы и общественные идеалы, за осуществление которых он боролся всю жизнь, но и его золотое сердце, что вполне отразилось и на характере его научных работ. В них красною нитью проходит глубокая любовь к нашему злосчастному народу. Василий Иванович описывает многострадальное рабство крестьян, их непосильный труд, жестокие наказания, которые они выносили, унижение их человеческого достоинства, которому они подвергались вследствие полного произвола помещичьей и полицейской власти. С таким же сочувствием и вниманием он относился и к положению рабочих на золотых приисках. С организациею их труда он познакомился не только из громадного количества архивных источников, но и благодаря личному наблюдению над ними на месте, – специально с этою целью он и предпринимал путешествие по Сибири. После трудов, посвященных крестьянству и рабочим на золотых приисках, Василий Иванович остановился на изучении важнейших моментов истории прогрессивных воззрений, идей и политических Движений в русском обществе. Результатом этого изучения была его книга «Политические и общественные идеи декабристов», а затем его многочисленнейшие статьи о петрашевцах, которые уже собраны и будут изданы в двух больших томах. Эти последние труды могут убедить читателя в глубоком сочувствии Василия Ивановича к освободительным, социалистическим учениям, в его ненависти к произволу нашего дореволюционного правительства, в горячей любви к политической свободе, в его глубокой вере в полное обновление России, когда она скинет с себя цепи рабства, когда падет неограниченная самодержавная власть царя.
Трудовая жизнь Василия Ивановича была усеяна терниями: в юности он испытывал большие материальные затруднения, а затем представление магистерской диссертации, ее защита, чтение лекций в университете, – одним словом, каждый шаг его общественной деятельности создавал ему много невыносимых неприятностей, дурные отношения со многими профессорами филологического факультета, которые в то время были чрезвычайно реакционно настроены.
Василий Иванович уже с юношеских лет мечтал о кафедре. Когда наконец после тяжелой борьбы, распускаемой клеветы и даже доноса, сделанного на него Бестужевым-Рюминым Делянову, он все-таки получил право читать лекции в Петербургском университете, – они продолжались очень недолго, но он все же убедился в том, что мечта его юности была не фантастическим бредом юноши, а истинным призванием, – его аудитория всегда была переполнена слушателями, и притом студентами всех факультетов. С молодежью у него установились наилучшие отношения товарища-друга. И вот в 1885 году правительство лишает его права читать лекции – это был самый жестокий удар в его жизни. Его большой приятель, профессор Стороженко, правильно выразился, что этим Василия Ивановича «обрекают на нравственную смерть». Тяжелая рана, нанесенная этим административным распоряжением, перестала давать себя чувствовать только в последние годы его жизни, когда он весь ушел в свои научные труды и в редакционную работу журнала «Голос минувшего».
Сноски
1
А. И. Семевский был женат на Александре Васильевне Петрашевской, родной сестре Михаила Васильевича Петрашевского. (Примеч. Е. И. Водовозовой.)
2
в курсе (фр.).