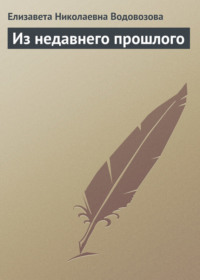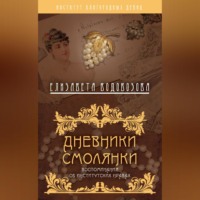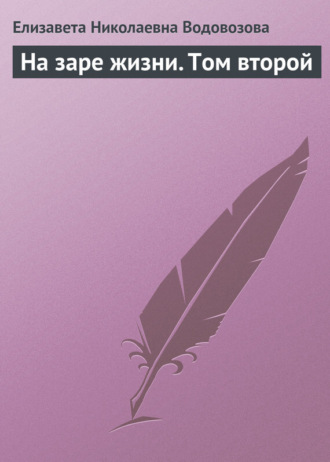
На заре жизни. Том второй
– Не мачехой, а маткой родной будет девчонкам!.. – подтвердил Антон.
– Чудаки! Ей-ей, чудаки! Я ж не перестарок какой! Чаво ж мне за себя старуху-то брать! – запальчиво выкрикнул Пахом.
Антон и Петрок напомнили ему, что Дунька – ровесница Василисы.
– А мне-то што из того? Хоча моложе ей буде! Перво-наперво хромоножка она, а с лица – што картошка печеная! – возражал Пахом запальчиво.
– Чаво зря язык чешешь? Честную девку порочишь, да еще сироту безродную! Такое тебе и болтать не пристало! – сердито крикнул на него Петрок. – Правду сказывай: «Как мальчишке безбородому, Ксюшка-де мне приглянулась!»
– Зенки-то Ксюшка не на одного тебя пялит! Пока в девках, – может, до конца себя соблюдет: больно батьки своего боится. А што там впереди буде, – только богу известно…
– Так-то так!.. Усе ж… – понуря голову, смущенно! бормотал Пахом.
– Еще чаво? – уже со злостью накинулся на него Петрок. – Женка-то еще жива, на погост не время нести, а уж думки-то про баловство пошли! Ты не срамотину неси, а толком, при людях, последнее слово скажи.
Пахом с остервенением чесал затылок и долго молчал, наконец махнул рукой и упавшим голосом промолвил:
– Чаво мне Василису перед смертушкой обиждать? Греха на душу брать не хочу: супротивства ейного николи не видел! Как она, жалеючи ребят, просила, чтоб я, значит, взял за себя Дуньку, пущай так и буде. Пущай во сырой земле ейные косточки спокой найдут.
Но тут раздался звон колокольчика, – мой брат возвращался за мной. Я полезла на полати проститься с Василисой и была поражена выражением ее исхудалого лица: на провалившихся щеках пятнами играл яркий румянец, на тонких растрескавшихся губах блуждала улыбка, глубоко запавшие глаза сияли счастьем. Она весело и часто закивала мне головой и, по обыкновению бывших крепостных, начала ловить мою руку для поцелуя. Когда ей это не удалось, она сказала тихим, дрогнувшим голосом:
– Благослови вас бог, барышнечка!..
Чтобы не возвращаться снова к описанию семьи этого крестьянина, я кстати скажу, что после описанного события Василиса прожила лишь несколько дней. Пахом сдержал слово, данное ей при других, и через шесть недель после похорон первой жены женился на Дуньке-хромоножке.
Когда мы с братом возвращались домой и проезжали мимо небольшого лесочка, до нас явственно донеслись стоны и отрывочные слова, видимо исходившие от человека, который находился поблизости от дороги. Кучер остановил лошадей, и мы с братом вышли из экипажа. Не успели мы сделать и нескольких шагов в глубину леса, как увидали небольшую прогалинку, а посреди валялось что-то вроде огромного плаща, который точно шевелился. Когда мы? подошли к предмету, привлекавшему наше внимание, брат вдруг разразился неистовым хохотом. Косматая голова с длинными волосами показалась из-под плаща. Брат от душившего его хохота не мог говорить, а я ничего не понимала. Только нагнувшись, я увидала, что это был священник в рясе, лежавший лицом к земле и не имевший возможности встать на ноги: через оба рукава его рясы был продет длинный кол или шест. Ясно было, что продеть этот шест самому священнику не было ни нужды, ни возможности, и я приставала к брату с вопросом, что все это значит, но он продолжал хохотать. Когда он наконец сдержал приступ душившего его смеха, он громко позвал кучера. Пока тот привязывал вожжи к дереву и подходил к нам, мой брат сказал священнику:
– Преподобный отче, не можете ли объяснить моей сестренке, только, знаете, так, чтобы не совсем ее переконфузить, каким образом вы попали в такое положение?
Священник, распростертый на земле с колом, продетым через широкие рукава его рясы, мог только немного двигать головой. Он узнал брата и отвечал с негодованием и злобою:
– Ваша сестрица сконфузится не из-за меня, а за своего братца, когда она узнает, что его с позором протурят с должности… Всем известно, что вы развратили наших крестьян! Из-за вас они и вытворяют всякие безобразия!
В это время подошел кучер, и брат с его помощью начал поднимать священника, приговаривая:
– Вместо того чтобы поносить меня, вы бы объяснили сестре, за что вы, отче святой, попали в немилость к крестьянам.
Но вот наконец попа поставили на ноги, осторожно придерживая его с двух сторон. В эту минуту он имел вид распятого человека. Всклокоченная и запачканная борода, растрепанные, лохматые и длинные волосы, испачканное грязью лицо и глаза, сверкавшие злобой, – все показывало, что он не только без покорности и смирения выносит свое испытание, но готов растерзать каждого. Кучер, долго сдерживавший свой смех, расхохотался во все горло; его хохоту вторил и брат; наконец оба они начали вытягивать шест, стараясь делать это как можно осторожнее и легче, чтобы не расцарапать плечи попа и не разорвать его одежды. Как только его освободили от шеста, священник, не прекращая брани и упреков по адресу брата, схватил свой цветной носовой платок и начал вытирать им грязь с лица и рук и всей пятерней расчесывать волосы. Брат продолжал свои шуточки:
– Отче, отче, так-то вы благодарите вашего спасителя? Ведь без меня вы заночевали бы в лесу…
Но священник, как только несколько привел себя в порядок, так и пустился в путь.
Я просила кучера объяснить мне, что все это означает, и тот совершенно просто отвечал:
– Уж коли кол попу продели, значит, он больно охоч до баб. Видно, с поличным попался! Небось в суд жаловаться не пойдет, даже попадье своей не скажет!
Когда я впоследствии спрашивала крестьян, карают ли они по-прежнему своих священников за чересчур любезное отношение к бабам, они отвечали мне, что этого давно не случалось:
– Наши-то колы им сразу отбили охоту… Теперешние попы этим не займаются.
Хотя мне предсказывали, что я буду томиться однообразием жизни в деревне, но этого не случилось: жизнь в ней была несравненно более оживлена, чем прежде. К тому же, все казалось мне теперь значительным и интересным: и разговоры мировых посредников, которые то и дело приезжали к брату, и отношения помещиков к новой реформе и их рассуждения по этому поводу, – одним словом, общественное движение проникло и сюда и всколыхнуло даже такую захолустную деревню, как наша.
Помещики посещали друг друга гораздо чаще, чем раньше; их разговоры и споры нередко принимали весьма оживленный характер. Много говорили они о предстоящем местном самоуправлении, о том, что скоро и у них среди низеньких деревенских изб будут возвышаться школы и больницы. За немногими исключениями, помещики (я говорю только о нашей местности) просто издевались над этими будущими нововведениями. Они доказывали, что такие затеи могли возникнуть лишь в головах кабинетных ученых, не знающих своего народа, что для того, чтобы заманить крестьянских ребят в школу, будущим земствам придется внести в свой бюджет солидную сумму на пряники, как приманку для ребят, а чтобы умаслить родителей отпускать своих детей в школу, правительству понадобится издать новый закон, по которому крестьяне получат право драть лыко в панском лесу, безвозмездно собирать грибы и ягоды, а в панских озерах и сажалках ловить рыбу. Без этих приманок, утверждали они, школы будут пустовать, так как крестьяне могут понимать лишь свою непосредственную выгоду, а не ту, которая обнаружится для них через несколько лет. Не будут крестьяне, по их мнению, посылать своих детей в школу и потому, что каждый ребенок школьного возраста уже исполняет какую-нибудь работу, необходимую в крестьянстве.
На именинах у нашего соседа собралось огромное общество: я была свидетельницею, как оно высмеивало предполагаемое устройство лечебных пунктов. Помещиков поражало то, что там, в Петербурге, не знают даже того, что наши крестьяне испокон века привыкли лечиться у знахарей и шептух. Все они в один голос утверждали, что крестьяне не променяют их на настоящих докторов, приводили множество примеров того, какими ужасными средствами лечат деревенские знахари и как, несмотря на то что они то и дело отправляют своих пациентов на тот свет, это не уменьшает доверия к ним народа.
Собравшиеся гости были солидарны между собой во взглядах на лечение народа, только одна немолодая помещица внесла диссонанс в этот разговор, заявив, что они говорят против очевидности. Крестьяне, утверждала она, хотя и продолжают лечиться у знахарей, но в то же время из дальних деревень отправляются в те помещичьи усадьбы, где хозяйка или ее дочь занимаются лечением, а когда к кому-нибудь в деревню приезжает доктор из города, больные крестьяне буквально осаждают его. Она предсказывала, что, как только появятся земские врачи, от больных крестьян у них не будет отбою. Утверждала она это на том основании, что крестьяне наблюдательный сообразительны от природы, быстро распознают, кто знает свое дело, кто нет, и помимо этого они вообще любят лечиться. То, что они теперь лечатся у знахарок, – еще ничего не значит, ведь и очень многие помещики прибегают к их же помощи, и не только из-за одного невежества и предрассудков. Посылать за доктором в город не всегда возможно даже для людей богатых, а когда близкий человек страдает, трудно оставаться в бездействии, – многие только из-за этого обращаются к знахарям.
Чтобы показать несостоятельность такого рассуждения, один из присутствующих рассказал следующее. Его сын, доктор, гостил у него летом. Как только он приехал в деревню, так и отправился по избам лечить крестьян. Одной бабе он прописал шпанскую мушку на затылок и какую-то микстуру, на свои деньги послал купить лекарство, а когда ему его доставили, он опять посетил бабу, опять растолковал ей, что и как делать. Тем не менее шпанскую мушку баба проглотила, а тряпку вымочила в микстуре и привязала к затылку. Это заставило всех хохотать. Помещица, говорившая в защиту необходимости рационального лечения, оказалась посрамленною.
Года через четыре после этого, когда я опять приехала в ту же местность, в ней уже существовали две школы и устроен был лечебный пункт и больничка. Все, что я увидела и узнала в то время относительно этих двух нововведений, убедило меня в том, как неосновательны были мнения о них помещиков, как мало знали они крестьян, среди которых прожили всю свою жизнь. Как только открывалась школа, ребят, желающих в ней учиться, и родителей, умоляющих принять в нее своего ребенка, оказывалось несравнение более, чем могли вместить ее стены. То же было и с лечением. Когда земские врачи явились на назначенные им лечебные пункты, к ним немедленно потянулся народ не десятками, а сотнями.
О чем бы ни разговаривали помещики между собою, как бы ни бранили они правительство за крестьянскую реформу, как бы ни осмеивали предстоящие новшества будущего самоуправления, какие бы первобытные взгляды ни высказывали они при этом, но очень важно было уже то, что они зашевелились, начали думать и рассуждать на только об опостылевшей всем обыденщине, но и об общественных явлениях. Таким образом, мертвая тишина и утомительное однообразие, царившие до тех пор в помещичьей среде нашего захолустья, сменились теперь большим оживлением.
Ко мне то и дело приезжала молодежь обоего пола, пока еще жившая в поместьях своих родителей. Они расспрашивали меня о взглядах петербургской молодежи на те или другие вопросы, брали книги для чтения, но за советами насчет своих недоразумений с родителями обращались не ко мне, а к моей матери.
Совершенно незаметно ни для себя, ни для других душою молодого кружка нашей местности сделалась не ял только что нашпигованная новыми идеями, а моя мать, в та время уже старая женщина. Когда крестьянская реформа совершилась, оба ее сына, тогда уже взрослые люди, увлеченные идеями освободительной эпохи, бросили военную службу: старший из них, Андрей, явился в качестве мирового посредника, а другой мой брат получил частное место в уездном городе поблизости от родного села. Оба они часто посещали матушку, выписывали все, что тогда выходило лучшего в литературе, и нередко сообща прочитывали многое. Матушка с жадностью набросилась на чтение; теперь у нее было для этого гораздо больше свободного времени, чем прежде: заботы и труды по родовому имению, поглощавшие всю ее жизнь, она передала своему сыну Андрею. И вот, отдавшись чтению, она начала впитывать в себя новые понятия.
Моя мать и в крепостническую эпоху придавала большое значение приобретению знаний, но тогда она смотрела на это с утилитарной точки зрения. «Больше будешь знать, больше будешь зарабатывать», – говорила она своим детям. В лихорадочную эпоху нашего возрождения она уже рассуждала иначе: «Мы все совершали в своей жизни великие преступления, и не оттого, что были злыми и дурными, а чаще всего потому, что мы оказывались невежественными и неразвитыми умственно и нравственно». Как в начале ее деятельности, когда она мужественно принялась за работу, чтобы поднять свое расстроенное хозяйство, над нею многие подсмеивались за то, что она работает, как мужчина, и забывает свое дворянское происхождение, так некоторые подшучивали над нею и теперь. Но ее деловитость и честность, ее прямой и открытый характер, чуждый какой бы то ни было корысти и фальши, снискали ей в нашей местности всеобщее уважение молодежи. И теперь помещики сильно осуждали ее за высказываемые ею новые воззрения, но она приобрела много друзей среди их детей. Хорошо зная материальное положение и характеры помещиков, живших часто даже на далеком расстоянии от нашего поместья, ей удалось в ту пору удержать многих молодых девушек от тяжелых жизненных ошибок, иногда от ненужного разрыва с родителями; умела она многим указать и на деятельность, бывшую у них под руками в деревне. Однако немало было и таких, которым она советовала порвать с своими близкими и ехать учиться в Петербург, – родители таких детей делали матушке большие неприятности.
Однажды к нам приехала крестница матушки, Варя Никитская, девушка лет двадцати трех, среднего роста, с симпатичным выражением миловидного лица. Она была дочерью крайне бедного мелкопоместного дворянина, но с восьмилетнего возраста осталась круглою сиротою без всяких средств к жизни и была взята на воспитание своими дальними родственниками, богатыми помещиками.
Варя с ранней молодости выказала громадные хозяйственные способности, и, когда ей исполнилось пятнадцать – шестнадцать лет, на ее руки постепенно перешло не только огромное домашнее хозяйство со всеми маринованиями, солениями и варениями, но и управление и заведование женскою частью всего деревенского хозяйства. За свой напряженный и ответственный труд, не оставлявший ей свободной минуты, она не получала никакого вознаграждения: ее только содержали и одевали. И вот Никитская задумала бросить деревню и уехать учиться в Петербург, на ее добрую, привязчивую натуру крайне смущала мысль уйти от людей, которых она считала своими благодетелями! Относительно этого она и приехала посоветоваться со своем крестного.
Матушка доказывала Варе, что ее добрые чувства к родственникам делают ей честь, но она не должна преувеличивать их благодеяния относительно себя. Конечно, ее обучили грамоте, и за это им большое спасибо, – другие помещики не позаботились бы и об этом, но они не дали ей образования, ничего не сделали для нее: хотя громадное хозяйство в продолжение семи лет лежит на ее плечах, они по-прежнему только кормят и одевают ее и не думают оплачивать ее тяжелый труд, и таким образом она уже давно с лихвою расплатилась за свое содержание с своими родственниками. Теперь, по словам матушки, Варя имеет полное нравственное право поступить так, как она сама того пожелает. Тем не менее она находила, что желания Вари ехать в Петербург немедленно – крайне легкомысленно. На что же она поедет, когда у нее нет ни копейки! На какие средства будет она там жить, когда у нее нет ни друзей, ни знакомых?
– На дорогу я достану – продам золотой браслет и сережки, которые мне подарили, а там найду какие-нибудь занятия… Ведь туда едут не только люди со средствами… Неужели я одна такая злосчастная, что не сумею пробиться?
Матушка убедила ее в том, что для нее немыслимо теперь бросить деревню: она не имеет никаких знаний для того, чтобы найти в Петербурге какой-либо заработок, ее сведения по сельскому хозяйству ни для кого там не требуются. Ей лучше всего поступить таким образом: она, ее крестная мать, берется уговорить ее родственников не пользоваться более ее трудом даром. Если они заартачатся, она пригрозит им, что сама найдет для своей крестницы какое-нибудь подходящее платное место в другом хозяйстве. Бралась матушка уломать ее родственников и относительно того, чтобы они, кроме жалованья, взяли ей еще помощницу, – тогда у нее будет свободное время для обучения крестьянских ребят, а также и для самообучения: она, ее крестная, берется снабжать ее книгами и журналами и объяснять ей все, чего она не поймет, а в затруднительных случаях обе будут обращаться к моим братьям. Года в два Варя скопит немного деньжонок, посредством чтения подвинется вперед в своем умственном развитии и может отправиться в Петербург: тогда она будет в состоянии слушать лекции, которые там читают, а может быть, и найдет себе заработок.
Этот проект привел Варю в восторг, и она опасалась только того, что он не осуществится. И действительно, в другое время это было бы невозможно, но не то было тогда: помещики, напуганные крестьянскою реформою, а также предстоящими нововведениями и разрывом молодежи с родителями, о чем у нас только и ходили слухи, со страхом ожидали для себя еще чего-то более худшего. Родственники Вари, дорожа ею, как превосходною и честною хозяйкой, поняли, что матушка легко может найти для нее платное место в другой семье, и на все согласились, конечно предварительно изругав и молодую девушку, и ее покровительницу.
Меня очень интересовали рассуждения моего брата с. крестьянами, когда они приходили к нему для выяснения своих недоразумений. Но первое время я мало что в них понимала. Хотя местный говор крестьян я знала с детства и, по приезде в деревню, легко вспомнила его, но их жалобы на помещиков, их недоразумения с ними, о которых они сообщали своему посреднику, мне были малодоступны. Для того чтобы это понимать, нужно было иметь ясное представление о помещичьих землях, о мирских переделах, о разверстании земель, необходимо было знать и пункты Положения 19 февраля, возбуждавшие иногда противоречивые толкования даже среди людей опытных. К тому же, крестьяне говорили все сразу, начинали обыкновенно свое объяснение с посредником таким гвалтом, что я иной раз ничего не могла разобрать в этом галдении; как от этого, так и от усиленного напряжения понять что-нибудь у меня сильно разболевалась голова, и я кончала тем, что уходила к себе, не дослушав до конца. Тем не менее мой брат сильно подсмеивался над моею упорною настойчивостью понять их новые деревенские дела и приписывал это «миссии», возложенной на меня молодежью. Он советовал мне лучше почаще посещать избы и вести разговоры с отдельными крестьянами. Я последовала его совету.
В домашнем быту прежде знакомых мне крестьян я нашла ничтожную перемену: вместо лучины у большинства из них избу вечером освещала пятнадцатикопеечная керосиновая лампочка, прибавилось число людей, носивших сапоги, а также количество семейств, у которых были самовары. Всем этим, однако, обзаводились крестьяне, которые, кроме сельского хозяйства, занимались и отхожими промыслами. Но особенно бросалось в глаза то, что сами крестьяне глядели теперь менее забитыми, казались более смелыми и самостоятельными; в сношениях с господами я заметила менее приниженности и угодливости. Правда, что и после освобождения некоторые из них подходили к господской ручке, зато в их приветствии слышалось менее рабских слов и вышла из употребления фраза, которую я так часто слышала в детстве в их разговорах со своими помещиками: «Вы – наши отцы-благодетели, а мы – ваши дети». Немало явилось и таких, особенно среди парней, которые не только не подходили к господской ручке, но не снимали даже шапки, проходили мимо помещика и его супруги, язвительно-насмешливо поглядывая на них, что крайне возмущало последних и служило даже предметом множества жалоб со стороны помещиков. Мировые посредники, чему я не раз была свидетельницею, уговаривали крестьян не раздражать господ такими пустяками, доказывая им, что те даже из-за этого зачастую не будут соглашаться на ту или другую необходимую для ним уступку. Однако некоторые из парней не сдавались ни на какие увещания. Но те же крестьяне совсем иначе относились к помещикам, с которыми у них не было ни дрязг, ни тяжб, ни неприятных столкновений. Нужно заметить, что в то время явилось немало таких дворян, преимущественно среди их сыновей, которые начали держать себя чрезвычайно просто с крестьянами, заходили к ним в избы поболтать, давали им советы, как поступать в том или другом случаев писали им письма, деловые бумаги, а то и жалобы на помещиков. Более консервативные из них с ненавистью смотрели на молодое поколение из своей среды; их страшно злило даже то, что крестьяне подают их сыновьям руку, в то время как мимо них они демонстративно проходят с шапкою на голове.
Руку подавали крестьяне преуморительно: подойдут с протянутой рукой и сунут ее, как палку; при этом парни не могли понять, нужно или нет снимать шапку, когда подаешь руку.
– Как же это ты, Иван, руку мне подаешь, а шапку не снимаешь? – спросил однажды доктор крестьянина.
– А нешто вы снимаете шапку, когда встречаете нас? – смело отвечал ему тоже вопросом молодой крестьянин.
– Конечно, снимаю: прежде шапку сниму, а потом руку подаю.
– Ах ты, господи, вот и приметлив я, а в этом маленько сплоховал! Так за то ж вы с нами тыкаетесь (на ты), а мы с вами выкаемся (на вы).
– Да, я к вам не обращаюсь на «вы», потому что вам тогда кажется, что я говорю со всеми, а не с одним.
Изба старика Кузьмы была от нашего дома верстах в десяти. Крестьянин этот был крепостным одного из наиболее зажиточных помещиков нашей местности. Молодухи двух старших сыновей старика приходили к нам иногда за лекарством для своих детей, а летом нанимались к нам на поденщину; младший же сын Кузьмы – Федька, еще не женатый парень лет двадцати, был в то время работником у моего брата. Матушка советовала мне познакомиться с ними и отзывалась об этой семье, как об одной из наиболее честных и порядочных в нашей местности, а о Кузьме говорила, как о человеке очень сообразительном, но крайне угрюмом, даже озлобленном.
Когда в один из воскресных дней я вошла в его избу, вся семья была налицо: и старики – родители, и двое женатых сыновей, Петрок и Тимофей, со своими женами и малолетними детьми, и Федька, пришедший к родителям в праздник «на побывку». Я застала всех членов семьи за самоваром; при этом на столе лежала связка баранок. Малышам давали по баранке и выгоняли на двор. Меня более всего поразил облик и вся фигура старика Кузьмы. Это был человек лет под шестьдесят, сухой как жердь, сутулый, с лицом, на котором выдавались скулы, обтянутые желтою кожей, совершенно лысый, но с очень густыми седыми бровями, торчавшими какими-то кустиками. Он сидел под образами, и глаза у него были опущены вниз даже тогда, когда он говорил: он точно разговаривал сам с собою, а когда изредка подымал голову, глаза его бегали, как у затравленного зверя.
Перед двумя из крестьян стоял чай в стаканах без блюдечек, и перед каждым из сидевших за столом лежало по крошечному кусочку сахару. Когда кто-нибудь допивал чаи, хозяйка наливала следующим, так как в семье было всего два-три стакана и оловянная кружка. Чаепитие продолжалось долго и происходило только по праздникам или когда в доме были больной или гость. Лицо старухи хозяйки напоминало высушенную черносливину: так оно было черно, изборождено морщинами, и в нем чуть-чуть выдавался только нос. Я спросила ее, сколько у нее выходит чаю. Она начала пересчитывать по пальцам: на Покрова брали восьмушку, на Илью восьмушку и т. д. Я насчитала полфунта в год и удивилась ничтожному количеству чая, выпиваемого при большой семье, даже если его употребляют только в праздники. Она отвечала мне, что гораздо чаще, чем чай, семья пьет сушеную землянику или малину, а при болезнях – липовый цвет.
На мои расспросы о воле Кузьма отвечал вопросом же:
– Кака така воля? Ты, барышня, из Питера, значит, поближе нас к царю стоишь, вот ты и растолкуй нам, какую нам царь волю дал. А мы, почитай, воли-то энтой и не видывали!
– Показаться-то воля показалась, – заметил его старший сын Петрок, – да мужик-то и разглядеть не успел, как она скрозь землю провалилась.
– Царь-то волю дал заправскую, – заговорил Федька, – читальщики о ту пору вычитывали нам не то, что попы, в манихфестах. Наши-то попы да паны подлинный царский манихфест скрыли, а заместо его другой подсунули, чтобы, значит, им получше, а нам похуже.
– Вы говорите, Федор, просто что-то несуразное, – возражала я.
– А вот, барышня, я сейчас расскажу, как от нас настоящую царскую волю прикрывали, – упрямо доказывал Федька. – Дело-то было на глазах как есть у всей деревни. О ту пору верст за сорок от нас старичок проявился поштенный, толковый мужик, большой грамотей. Чтобы, значит, задарма не тащиться ему к нам, мы по две гривны с семьи ему положили, а кому не под силу, лошадь и человека должон был дать, чтобы послать за им. В нашей семье бабы взялись пирогов ему напечь, а суседи – водки купить. Вот в воскресный-то денек, чуть забрезжился свет, наша подвода за им и выехала, а под вечер его к нам и доставили. Старичок-то хороший, как лунь седенький… Ну, мы его в одночасье в красный угол посадили, вместе с им выпили, закусили, все честь честью. Вечерок-то выдался погожий, мы и высыпали из избы, на завалинку старичка посадили, а кругом-то уся деревня вплотную кругом его сгрудилась, да и много чужих понашло. Старичок-то встал с завалинки, перекрестился, на все стороны низко поклонился, вынул бумагу из-за пазухи, да и зачал: «Православные, грит, ежели, значит, я облыжно хоть словечко прочту, гореть мне не сгореть в аду кромешном. Когда становой…»