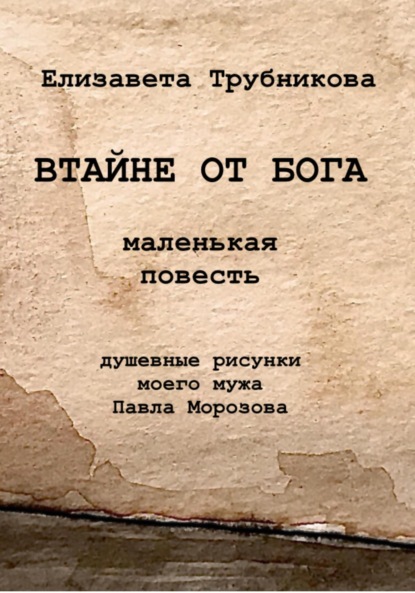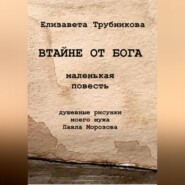По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Втайне от Бога
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я жила там же, и, в этом смысле, ничего не изменилось. Но это было вовсе не то, что раньше.
От горя и вправду можно свихнуться. Но моё безумие существовало само по себе. Оно дремало, как неведомый зверь в глубине лесной чащи – никем никогда не виденное.
Пока мои знакомые и друзья продолжали жить привычной жизнью, я разлагалась внутри своего разума. Не зная как выбраться наружу.
Больничную карту из страха я выкрала и сожгла. Таблетки и рецепты прятала, завёрнутые в три пакета, в самый тёмный угол кладовки.
Такой я досталась моему композитору. Он приходил к одному человеку и сбегал от другого. Друзья советовали устроиться на работу и взяться за ум. Но вот ума-то у меня как раз и не было.
Я как будто доживала последние дни. Одной ногой в могиле, почти касаясь рыхлого песка.
Устраиваться удобнее в личном аду, мне помогала целая кладовка алкоголя. Надаренного папе за годы работы.
В большом кресле, у холодной батареи, веся сорок пять килограммов. Завернувшись в мамин шерстяной палантин, я слала композитору свои фотографии. На затуманенных снимках улыбчивое лицо и взгляд, полный тоски и безумия. И всё же этот миг – самый прекрасный из тех, что я помню.
Мои шаги по коридору, штаны в серо-розовую клетку и полосатая футболка с надписью «Манго». Короткие осветлённые волосы.
Пока мои друзья укреплялись в жизни, приучаясь обеспечивать её материальную сторону, я жила как подросток на вокзале. Голодная и поглощённая мечтами о том прекрасном и неведомом, что никогда не посещает уравновешенных, уверенных в завтрашнем дне, обеспеченных голов.
Я блуждала по паркам, собирая каштаны. Сушила и жарила их. Почти как в Париже.
Моя единственная близкая подруга советовала найти работу.
Она была банковской служащей, куда её пристроили ещё в пору юности. Пределом её мечтаний было вытащить из стиральной машинки белую блузку. Наутро отутюжить и пойти для ещё одного дня на работу в банк.
Безумие – странная штука.
Жизнь служащей банка мне видится безумием. Тогда как для послушного и опрятного клерка, я – сумасшедшая.
Tabulа rasa IV.
Впервые я столкнулась со стрессом, когда мне стукнуло двадцать пять.
Мы жили с папой вдвоём. После смерти мамы, мы долго не могли оправиться.
Я взялась перегладить всё, что было в квартире. Делала это увлечённо, незаметно доходя до исступления. За две недели до смерти мама жаловалась, что мы совсем ей не помогаем. И она ужасно мучается, переглаживая горы.
Я ненавидела гладить.
Вместо того, чтобы взглянуть в лицо фактам и понять, что маму мучали вовсе не чёртовы горы тряпок, а аневризма на гипофизе в мозге. Вместо этого, я пыталась загладить вину перед мамой.
Пока однажды папа не встряхнул меня хорошенько за плечи и не выкинул на помойку гладильный пресс.
– Ты – моя дочь. И я хочу видеть дочь! – вдруг закричал папа.
В тот день я забросила глажку навсегда.
Я устроилась на работу в торговый центр. Через два месяца стала главной по рекламе. И случился первый нервный срыв.
От постоянных перегрузок я кричала ночами, спросонья принимая папу за начальницу. Днём перед глазами сверкали серебристые полосы.
Папа попросил уволиться. Он выразился ясно – плевать на этот торговый центр, он хочет видеть меня спокойной.
«Занимайся творчеством. Пока я жив, как-нибудь продержимся».
Я не хотела увольняться. Но вскоре сдалась. После кошмарной ночи, где небо разрывали адские молнии. И гигантский памятник, сначала гневно сверкнул на меня мёртвыми каменными глазами. А потом, с грохотом передвигая исполинские ноги, двинулся в сторону моего дома.