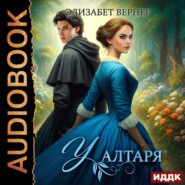По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дорогой ценой
Автор
Год написания книги
1878
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я всегда сожалела об этом, – стала уверять баронесса. – В последние годы своей жизни мой муж тщетно искал сближения – вы были недоступны. Он не мог дать большего доказательства своего уважения и глубокого доверия к вам, как передав в ваши руки самое дорогое для него на свете. На своем смертном одре он назначил вас опекуном Габриэли.
– Иными словами, после того как был разорен, он предоставил заботы о жене и ребенке мне, которому при жизни вредил при всяком удобном случае. Я прекрасно сознаю, как высоко должен ценить это доказательство его доверия!
– Арно, вы не знаете, как жестоки ваши слова! Неужели вы не пощадите чувств удрученной горем вдовы?
Вместо ответа взгляд барона скользнул по элегантному серому шелковому платью баронессы. Ровно в годовщину своего вдовства она сняла траур, так как знала, что черный цвет не идет ей. Нескрываемая насмешка во взгляде зятя вызвала на лице баронессы легкий румянец не то досады, не то смущения.
– Лишь теперь я начинаю оправляться от страшной катастрофы, – продолжала она. – Если бы вы знали, какие заботы и унижения предшествовали ей, какие потери обрушивались на нас со всех сторон! Это было ужасно!
Саркастическая усмешка появилась на губах барона. Он отлично знал, что все потери барона совершались за игорным столом, а все заботы его супруги состояли в том, чтобы затмить всех дам столицы. После смерти министра баронесса получила такое же состояние, как и ее сестра, и промотала его до последнего гроша, в то время как часть наследства, перешедшая к баронессе Равен, оставалась до сих пор нетронутой в руках ее супруга.
– Довольно! – оборвал речи баронессы Равен. – Оставим этот неутешительный предмет. Я предложил вам свой дом и очень рад, что вы приняли мое приглашение. После смерти моей жены я принужден был прибегать к помощи чужих женщин, которые, правда, умели вести хозяйство, но не удовлетворяли требованиям, предъявляемым к представительнице дома. Вы умеете и любите представительствовать, Матильда, а я именно в этом нуждаюсь. Следовательно, наши интересы согласуются, и, я надеюсь, мы будем довольны друг другом.
– Постараюсь удовлетворить вашим желаниям, – ответила баронесса Гардер, следуя примеру своего зятя, который поднялся с места и направился к окну.
Равен обратился к ней еще с несколькими безразличными вопросами относительно того, довольна ли она обстановкой и прислугой, но едва ли слышал поток слов баронессы, уверявшей, что она от всего в восторге: его внимание привлекло нечто совершенно другое.
Под самым окном перед квартирой смотрителя дома, был разбит садик, и там прогуливалась Габриэль, вернее бегала взапуски с детьми смотрителя.
Молодая девушка вышла на утреннюю прогулку, чтобы ознакомиться с окружающим. Так по крайней мере она объяснила матери. Но ее интересовала собственно лишь известная часть этого окружающего. Она знала, что Георг Винтерфельд ежедневно бывает в губернском правлении, значит, нужно было искать возможность почаще встречаться с ним, а это, по мнению Георга, было чрезвычайно трудно. Габриэль не разделяла такого взгляда, и ее рекогносцировка пока ограничивалась тем, чтобы разузнать, где именно помещалась канцелярия барона, в которой работал молодой человек. Тут на ее пути попались семилетний мальчик, сын смотрителя, и его сестрица, и она тотчас же завязала с ними знакомство. Веселые ребятишки доверчиво откликнулись на приветливость молодой девушки, и новое знакомство тотчас же отодвинуло на задний план всякую мысль о разведке и о том, ради кого она была предпринята. Габриэль дала детям увлечь себя в садик, любовалась вместе с ними кустарником и цветочными клумбами и совсем подружилась с детьми. Уже через четверть часа началась шумная игра, в которой Габриэль принимала оживленное участие. Она прыгала вместе с ребятишками через клумбы и на все лады поддразнивала их. Как ни неприлично это было для семнадцатилетней девушки, да притом еще племянницы губернатора, но для беспристрастного наблюдателя сцена была прелестна. Все движения молодой девушки были проникнуты бессознательной, естественной грацией. Стройная фигура в белом утреннем платье мелькала, как солнечный луч, среди темной листвы деревьев. Тяжелая коса распустилась во время веселой возни, и густые белокурые волосы рассыпались по плечам Габриэли, между тем как ее веселый смех и восторженные крики детей доносились до самых окон замка.
Баронесса ужаснулась этой распущенности, тем более что заметила, каким пристальным взором наблюдал сцену за окном ее зять. Какого мнения мог быть гордый, придерживающийся всех правил этикета барон о воспитании молодой девушки, допускавшей на его глазах такие вольности! Поэтому она постаралась сгладить дурное впечатление.
– Габриэль по временам бывает настоящим ребенком, – пожаловалась она. – Никак нельзя втолковать ей, что подобное ребячество совершенно неуместно в ее возрасте. Меня почти пугает появление Габриэли в свете, которое вследствие смерти ее отца отсрочено еще на год. Она в состоянии перенести и в салонную жизнь подобную распущенность.
– Предоставьте девочке ее непринужденность! – сказал барон, не отрывая взора от оживленной группы. – Она еще успеет научиться быть светской дамой. Теперь, право, жаль делать это, так как она – воплощенный солнечный луч.
Баронесса насторожилась. Она впервые слышала теплый тон в словах своего зятя, и впервые в его взоре не было ледяной холодности. Очевидно, ему понравилась резвость Габриэли, и практичная женщина решила немедленно воспользоваться этим, чтобы выяснить один пункт, тяготивший ее.
– Мое бедное дитя! – вздохнула она с деланным умилением. – Она беззаботно живет и не подозревает, какое серьезное, может быть, печальное будущее готовит ей судьба. Бедная девушка, это горький жребий, вдвое более горький для той, кто, подобно Габриэли, воспитан с надеждами и высокими требованиями к жизни. Она вскоре почувствует это.
Маневр удался. Обычно неприступный, Равен, по-видимому, был в мягком настроении. Он быстро обернулся и решительно сказал:
– Зачем вы, Матильда, говорите о печальном будущем? Ведь вам известно, что я бездетен и у меня нет собственных родственников. Габриэль – моя наследница, и потому, разумеется, не может быть и речи о бедности.
Торжество сверкнуло в глазах баронессы.
– Вы ни разу не говорили мне об этом, – заметила она, с трудом скрывая радость, – и само собой понятно, что я не смела коснуться данного вопроса. Эта мысль была так далека от меня…
– Неужели и в самом деле возможность моей смерти и мое завещание никогда не входили в круг ваших размышлений? – прервал ее барон.
– Но как вы можете так думать? – с глубоко оскорбленным видом воскликнула баронесса.
Равен не обратил внимания на ее возмущенный возглас.
– Надеюсь, вы не говорили об этом с Габриэлью, – произнес он (не зная, что это происходило почти ежедневно). – Я не хочу, чтобы она уже теперь считала себя богатой наследницей, и тем не менее желаю, чтобы семнадцатилетняя девушка принимала в расчет мое состояние и мое завещание, хотя это… вполне естественно для других.
– Вы всегда неправильно понимаете меня! – вздохнула баронесса. – Вам кажется подозрительным даже трепет матери за будущее своего единственного ребенка.
– Нисколько! Вы ведь слышали, что я считаю вполне естественным этот «трепет» и потому повторяю вам свои слова. Так как свое состояние я получил от тестя, то пусть оно в будущем перейдет к его внучке. Габриэль, вероятно, выйдет замуж еще при моей жизни, и тогда я позабочусь о ее приданом. После моей смерти, как я уже сказал, она будет моей единственной наследницей.
Баронесса или не чувствовала, или игнорировала то едва прикрытое внешней вежливостью презрение, с каким обращался к ней барон и которое не ускользнуло при первой же встрече от чуткой Габриэли. Баронесса сознавала, что питает к своему зятю так же мало симпатии, как и он к ней, и подчинялась лишь необходимости с любезной миной выслушивать его резкости. Однако перспектива стоять во главе такого блестящего дома, как дом губернатора, в качестве его родственницы играть первую роль в Р. и иметь доступ в его высшие слои примиряла ее с этой необходимостью.
Через несколько минут, проходя через переднюю, Равен остановился у окна, выходившего в садик смотрителя и, мельком взглянув вниз, проговорил про себя:
– И этому ребенку суждено было иметь таких родителей и получить такое воспитание! Пройдет немного времени, и Габриэль станет такой же кокеткой, как и ее мать, не знающая и не желающая знать ничего, кроме туалетов, интриг и салонных сплетен.
Канцелярия, куда направился теперь губернатор, располагалась в нижнем этаже замка. Хотя он и предпочитал работать в своем частном кабинете, но очень часто посещал канцелярию и другие отделения губернского правления. Его чиновники никогда не были гарантированы от неожиданного появления своего начальника, от внимательного взора которого не ускользало ни малейшее упущение.
Присутствие уже давно началось, и чиновники были на своих местах, когда барон вошел в канцелярию и с легким поклоном стал обходить ее отделения. Его обращение с подчиненными было сдержанно-вежливым, но тем не менее чиновники очень боялись его недовольства.
Когда барон вошел в последнюю комнату, навстречу ему из-за конторки поднялся пожилой чиновник, работавший один в этой комнате, высокий худощавый человек, с важным выражением на морщинистом лице и напыщенным видом. Его седые волосы были тщательно расчесаны, на черном сюртуке не виднелось ни морщинки, ни пылинки, а высокий белый галстук необычных размеров придавал ему чрезвычайно торжественный вид.
– Здравствуйте, господин советник, – любезно сказал барон, жестом приглашая чиновника последовать за ним в соседний кабинет. – Я рад, что вы возвратились, в течение этих нескольких дней я сильно чувствовал ваше отсутствие.
Советник Мозер, директор губернской канцелярии, с видимым удовольствием выслушал признание его необходимости.
– Я очень спешил, ваше превосходительство, – отозвался он, – вам ведь известно, что я просил об отпуске для того, чтобы привезти свою дочь из монастыря. Я уже имел честь представить ее вашему превосходительству, когда мы встретились вчера в галерее.
– Мне кажется, вы слишком долго держали молодую девушку под духовным надзором. Она уже теперь производит впечатление монахини. Боюсь, что монастырское воспитание окончательно погубило ее.
Мозер с выражением ужаса уставился на своего начальника.
– Что вы хотите этим сказать, ваше превосходительство? – проговорил он.
– Я хочу сказать, что она погибла для света, – поправился барон.
– Ах, так! Да, разумеется, вы правы, ваше превосходительство. Но мысли моей Агнесы всегда были далеки от мирского, а вскоре она и совершенно покинет свет – она решила постричься.
Барон взял в руки несколько бумаг и мельком пробежал их взглядом, в то же время продолжая разговор с чиновником, который пользовался его исключительным доверием.
– Ну, это не удивительно! – говорил он. – Когда девушку с четырнадцати до семнадцати лет держат в монастыре, то следует ожидать подобного решения. А вы согласны на это?
– Мне будет тяжело навсегда лишиться своего единственного ребенка, – торжественно сказал Мозер, – но я далек от того, чтобы воспрепятствовать такому святому намерению. Я дал свое согласие. Моя дочь еще несколько месяцев проживет в моем доме и в свете, а затем поступит послушницей в тот самый монастырь, где до сих пор была пансионеркой. Мать-настоятельница желает избежать и намека на принуждение.
– Мать-настоятельница, должно быть, уверена в своей питомице, – заметил барон с иронией. – Впрочем, если молодая девушка сама желает этого, то незачем убеждать ее в противном. Мне жаль только вас. На старости лет вы надеялись найти поддержку в своей дочери и теперь принуждены уступить ее монастырю.
– Господу Богу! – благочестиво подняв взор к потолку, воскликнул старик, – и перед этим права отца должны отступить на задний план.
– Конечно! А теперь за дела! Есть что-нибудь важное?
– Рапорт полицмейстера…
– Знаю, – перебил барон, – в городе подняли страшный шум из-за новых обязательных постановлений. Ничего, успокоятся! Что там еще?
– Обстоятельный доклад в министерство, о котором мы уже говорили. Кому прикажете составить его, ваше превосходительство?
Равен с минуту подумал и сказал: