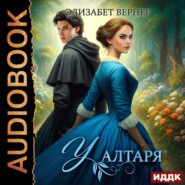По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Руны
Автор
Год написания книги
1903
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты сильно ошибаешься, – засмеялся Курт. – Дядя Гоэнфельс метит гораздо выше. На свою единственную дочь он мечтает надеть княжескую корону.
– Княжескую корону? Ты подразумеваешь Зассенбурга?
– Конечно. Об этом говорили еще весной, когда он был в Гунтерсберге, а это приглашение принца и то, что его приняли, подтверждают слухи.
– Но ведь принцу за сорок! Он почти на тридцать лет старше Сильвии.
– Этого министр, разумеется, не принимает в расчет; для него важно только то, что это блестящая партия, а Сильвия, надо полагать, будет одного мнения с ним. Другие же препятствия едва ли найдутся. Принц Альфред принадлежит к побочной линии царствующего дома и не обязан учитывать какие-либо династические соображения… Он очень богат, вполне независим, а вы, древние потомственные дворяне. Папа даже думает, что это уже вполне решенное дело и поездка, кроме цели, о которой говорят, имеет еще и другую, тайную: дать жениху и невесте случай видеться ежедневно и без свидетелей.
– Ну, в таком случае честолюбие дяди будет, наконец удовлетворено! Его имя угаснет, но, по крайней мере, под княжеским гербом. Кто бы мог подумать, что Сильвия сделает такую партию!
– Пока это только слухи, – сказал Курт, желая прекратить разговор. – Кто знает, подтвердятся ли они. Мне хочется поближе познакомиться с твоим кильским молодцом. Он уже давно стоит там и ждет, чтобы я заговорил с ним. Надо доставить ему это удовольствие.
В самом деле, управившись с работой, Христиан Кунц поспешил вернуться на палубу; все его лицо сияло, когда лейтенант Фернштейн подошел к нему. Он сразу отдал ему честь.
– Очень хорошо! Совсем по уставу! – похвалил его молодой офицер. – Где ты этому научился? Ведь, говорят, ты еще не был на службе.
– У брата, – ответил он с гордостью. – Мой брат Генрих служит матросом на «Фетиде», и я, собственно говоря, собирался тоже поступить туда юнгой.
– А вместо этого попал на «Фрею» и отправился в Норвегию. Нравится тебе здесь?
– О, конечно! Работа легкая и жалованье хорошее… и господин капитан очень добр ко мне. Так хорошо мне нигде бы не было. И Генрих считает, что мне выпало большое счастье, я буду избавлен от тяжелой жизни корабельного юнги; по словам брата, им круто приходится. И отец тоже так думает. Да, мне здесь очень нравится.
– Если бы только не тоска по родине, – сказал Курт, не сводя зоркого взгляда с лица матроса.
– Да… если бы только не тоска по родине, – ответил тот решительно. – Иной раз так защемит сердце. Господин капитан говорит, что это мои выдумки; ведь если бы я служил на флоте, то никогда не бывал бы дома. Конечно, он прав, но только он один и говорит здесь со мной по-немецки. Иначе мы оба разучились бы говорить на родном языке.
– Но ведь ты можешь все-таки объясняться со своими товарищами? – лейтенант указал на двух матросов, ждавших разрешения сойти на берег.
– Могу, – ответил Христиан довольно уныло. – Объясняться то я научился, но какое удовольствие говорить с чужими? Они разбираются только в своем ремесле, но во всем остальном Нильс – баран, а Олаф – медведь, и разговаривать они оба не охотники. Только я заговорю, сейчас же окрик: «Не болтай! Делай свое дело!» Как будто Господь дал человеку рот для того, чтобы он молчал! Здесь, в Рансдале, никто не знает, что значит быть веселым. У нас в Киле не так!
– Ну так радуйся, – утешил его Курт. – На следующей неделе сюда придет «Орел», немецкое судно с немецким экипажем, за исключением норвежца-штурмана. Вот ты и наговоришься с земляками.
– «Орел»? – Христиан подскочил, словно от электрического удара. – Это правда, господин лейтенант? О, я хорошо его знаю, он был уже здесь прошлым летом и простоял в нашем фиорде целый месяц.
– Вероятно, так будет и на этот раз, потому что принц Зассенбург опять будет жить здесь в горах, в своем охотничьем замке. Кроме того, на «Орле» едут близкие родственники твоего капитана. Ты, может быть, слышал о министре Гоэнфельсе в Берлине?
– Как же мне не знать нашего министра? Генрих говорит: «Вот это человек! Нам таких и надо. Он достойно представляет государство и за его пределами, и внутри». И отец тоже говорит…
– Ну, так его превосходительство едет с дочерью в Рансдаль в качестве гостя принца, и «Фрее», конечно, придется по этому случаю поднять немецкий флаг. Я вижу, у вас висит норвежский.
Лицо Христиана вдруг стало серьезным и унылым: он, точно пристыженный, опустил голову.
– У нас совсем нет немецкого флага, – сокрушенно признался он.
– Как! Даже для приветствия?
– Да. Господин капитан говорит, что «Фрея» – норвежское судно и должна ходить только под норвежским флагом.
Курт промолчал, но взгляд, брошенный на товарища, был далеко не дружелюбен. Наконец он сказал равнодушно:
– Господин Гоэнфельс вырос в Рансдале. Все его воспоминания детства и юности связаны с Норвегией, и потому он избрал ее своим отечеством.
Бернгард все еще стоял у руля, спиной к ним. Он был очень взволнован и старался не показывать этого. Ему казалось, что он раз и навсегда покончил с прошлым и с дядей, когда своим выходом в отставку оскорбил его, когда вырвался из того мира принуждения и всевозможных формальностей, из «рабства» службы ради удовлетворения своего необузданного влечения к свободе. Теперь он уже целый год пользовался этой неограниченной свободой, и, тем не менее, можно было прочесть следы внутренней борьбы на его лице, во взгляде, устремленном туда, где был выход из фиорда в море. Там был покинутый, отвергнутый им мир! Ведь он сам ушел из него, как сделал когда-то его отец, но теперь этот мир посылал к нему гонца в его далекую пустыню. С приходом судна и тех, кого он вез на своем борту, нахлынули воспоминания из прошлого: все порванные нити вновь завязывались. Бернгард стиснул зубы: всей своей мятежной душой восставал он против этих воспоминаний и этого прошлого. В самом ли деле он их так ненавидел? Или же он их… боялся?
8
В Рансдале все пришло в движение, потому что около полудня должна была прибыть яхта принца Зассенбурга. Вообще рансдальцы были весьма равнодушны к тем, кто прибывал извне, но, будучи большей частью моряками, они интересовались всяким судном, а «Орел» к тому же был в последние пять-шесть лет неизменным гостем в их водах. В течение нескольких недель стоянки команда, конечно, бывала на берегу и вступала в некоторое общение с местными жителями. Образ жизни принца в его охотничьем замке отличался аристократической замкнутостью – обитатели Альфгейма держались обособленно. Несмотря на это приход яхты был событием для Рансдаля, в котором стояли большей частью только рыболовные суда: даже появление пароходика, ходившего два раза в неделю, казалось уже чем-то особенным: это было приятное нарушение будничного однообразия.
По дороге, ведущей из Эдсвикена вдоль фиорда, шли Курт, который был сегодня в полной морской форме, и Бернгард в охотничьей куртке, которая, по крайней мере, для него, заменяла здесь в торжественных случаях визитный костюм. Пастор обычно появлялся в таких случаях в одежде, приличествующей его сану, остальные рансдальцы – в своих домашних полукрестьянских нарядах: Гоэнфельс выбрал охотничью куртку раз и навсегда, потому что со времени своего выхода в отставку больше ни разу не надевал формы.
Следом за ними шагал Христиан Кунц: он шел с особенным сознанием собственного достоинства, потому что лейтенант настоял, чтобы именно он принял участие во встрече «Орла». Его сияющая физиономия представляла резкий контраст с мрачной, сердитой миной его хозяина, который сказал товарищу вполголоса, но с явным волнением:
– Просто не знаю, что и думать об этой истории! Я ведь говорил тебе, что мое знакомство с Зассенбургом самое поверхностное и я решительно не собирался поддерживать его, и вдруг он пишет мне в таком тоне, точно я его лучший друг, сообщает, что на борту его «Орла» находятся мои родственники, извещает меня о дне и часе своего прибытия, выражает удовольствие по поводу того, что познакомится с тобой – разумеется, он узнал от дяди, что ты у меня. Что все это значит?
– Я тоже не могу объяснить себе это, – задумчиво ответил Курт. – Он, так сказать, приставил тебе этим пистолет к груди, и нам ничего больше не остается, как в полном параде явиться на встречу. Не исходит ли приглашение от твоего дяди?
– Нет, между нами все кончено, – ответил Бернгард, не колеблясь. – Он никогда не простит мне, что я бросил службу и отрекся от родины и семьи.
– А между тем это очень похоже на попытку к сближению, и принц служит только посредником. Не кроется ли за этим Сильвия?
– Сильвия? Что это тебе пришло в голову? Едва ли она даже помнит меня. К тому же наши общие детские воспоминания вообще не носят дружеского характера: я один оказывал ей сопротивление, когда она тиранила весь дом своими ребяческими капризами, и вследствие этого меня считали бесчувственным варваром.
– Ну, положим, любезным относительно кузины тебя действительно нельзя было назвать. Все-таки она была больным ребенком, а ты…
– Необузданным, грубым мальчишкой. Действительно меня еще недостаточно выдрессировали в Ротенбахе, но ведь это было известно. Зачем же меня не держали подальше от этого маленького, жалкого существа, не выносившего даже громко сказанного слова? Мне противно все болезненное и безобразное, а Сильвия со своими неестественно большими глазами на худом, желтом как воск лице выглядела как мертвец в гробу. Это были настоящие глаза призрака! Они точно гипнотизировали тех, на кого она смотрела. Она очень хорошо знала, что это злит меня и раздражает, и потому не сводила с меня глаз, как только мы оставались одни: уж она умела мучить людей, несмотря на всю свою беспомощность, а я не позволял себя мучить, как другие. Дядя никак не мог простить мне это.
– Да, раз он даже отослал тебя к нам в Оттендорф, когда ты впал в полную немилость, – сказал Курт. – Ты был чрезвычайно доволен этим изгнанием, он же был вне себя от твоего «бессердечия». Что, собственно, тогда случилось?
– Ребячество! В любой другой семье на это не стали бы даже тратить слов. Сильвия лежала в своем кресле на колесах на террасе, а я должен был присматривать за ней. Я злился, потому что мне хотелось к тебе, а вместо этого меня заставляли изображать няньку, а она к тому же еще мучила меня, приставая со всевозможными расспросами. Я должен был рассказывать ей о Рансдале, о том, как выглядит море, как будут звать мой корабль, которым я вечно хвастал. Я принялся описывать ей бурю, собственно говоря, с единственной целью – напугать ее и отбить у нее охоту расспрашивать. Вдруг это жалкое, маленькое существо вытягивает вперед руки и восклицает: «Ах, как хорошо! Я тоже хочу в море; я хочу плыть вместе с тобой на корабле в бурю!». Тут у меня лопнуло терпение, и я насмешливо сказал: «Покорнейше благодарю! На кораблях не нуждаются в таких бессильных, хилых созданиях, как ты; тебе место не на корабле в бурю, а на дне вместе с русалками и водяными!»
– Стыдись! Это была с твоей стороны грубость.
– Обыкновеннейшая детская ссора! – нетерпеливо перебил Бернгард, – в таком возрасте мальчики не питают рыцарских чувств к маленьким девочкам. Разве ты сам никогда не ссорился с сестрой?
– Даже очень часто, но Кети была здорова и отплачивала мне тем же.
– А Сильвия страшно возмутилась! Сначала она уставилась на меня своими глазами призрака, совершенно неподвижно и молча, а потом закричала отцу как раз вышедшему на террасу: «Папа, он хочет бросить меня в море к русалкам и водяному!» Потом судорожно разрыдалась. Отец понес ее в комнату, позвали мать и няньку, а со мной обошлись как с преступником. С тех пор мы стали заклятыми врагами.
Они миновали маленький лесок, и впереди, на некотором отдалении, показались первые дома Рансдаля. На повороте дороги, ведущей из гор, стоял экипаж – местная тележка, в которой помещаются только пассажир и мальчик-грум: пассажир обернулся и говорил с грумом, вернее сказать, оба они кричали во все горло, но все-таки не могли понять друг друга, потому что один говорил по-немецки, а другой – по-норвежски. Курт поглядел на путешественника и громко расхохотался.
– Право же, это он… Филипп, собственной персоной!
– Кто? – спросил Бернгард, тоже всматриваясь.
– Филипп Редер, наш вечно унылый ротенбахский товарищ. Я говорил тебе, что мы вместе ехали на пароходе.
– Но я думал, что он уехал в Дронтгейм, а оттуда дальше на север. Как он попал сюда?