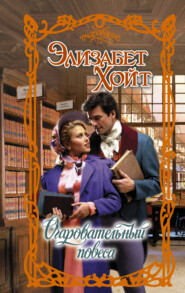По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Грешные намерения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего подобного. – Темперанс опустила руки. – В нашей семье красавицей была ты. И если бы какой-то подлец лорд захотел бы совратить кого-то, то это была бы ты.
Сайленс сурово посмотрела на сестру:
– Ты пытаешься перевести разговор на другое.
Темперанс вздохнула и опустилась на стул.
– Только никому не говори, Сайленс. Пожалуйста, не говори. Я уже взяла у лорда деньги, чтобы заплатить ренту – вот таким образом мы выплатили долг.
– Но Уинтер наверняка в конце концов узнает об этом. Как ты ему объяснила оплату ренты?
– Я сказала ему, что продала кольцо, которое подарил мне Бенджамин.
– О, Темперанс! – Сайленс в ужасе зажала рукой рот. – Ты солгала Уинтеру?
Но Темперанс покачала головой:
– Это единственная надежда спасти наш приют. Подумай сама, что будет с Уинтером, если приют закроют.
Сайленс отвела глаза. Из всех братьев Уинтер больше всех был предан отцу и помогал ему в благотворительной деятельности. Если приют прекратит свое существование, это будет для Уинтера страшным ударом.
– Пожалуйста, Сайленс, – прошептала Темперанс. – Ради Уинтера.
– Хорошо, – кивнула Сайленс. – Я не скажу нашим братьям…
– О, спасибо тебе!
– Если только не почувствую, что ты в опасности.
– Этого не будет, могу тебе обещать.
Лазарус проснулся от беззвучного крика. Он распахнул глаза и некоторое время просто лежал, обводя взглядом комнату, стараясь вспомнить, где находится. Затем он узнал свою собственную спальню. Темно-коричневые стены, старинная, внушительного вида мебель и кровать с зелено-коричневым пологом. Раньше здесь спал отец, и Лазарус, получив в наследство титул, не потрудился что-либо изменить. Глядя в окно, он чувствовал, как медленно расслабляется каждая мышца его тела. Наступал бледный рассвет, Лазарус потянулся, не одеваясь, подошел к высокому туалетному столику и плеснул в лицо холодной водой, затем, надев желтый парчовый восточный халат, сел за стоявший в углу элегантный столик вишневого дерева – единственный предмет обстановки, который он добавил в эту комнату. Отец не одобрил бы привычку писать что-то в дезабилье.
Лазарус усмехнулся. Затем снял крышку с чернильницы и принялся за свой перевод. Катулл в этой поэме особенно язвительно высказывался о Лесбии. Лазарусу хотелось подобрать правильное слово, в совершенстве подходящее слово, которое сияло бы, как бриллиант на изысканном кольце. Эта работа требовала точности и внимания, и он мог заниматься ею часами.
Чуть позднее в комнату вошел слуга Смолл, и Лазарус увидел, что комнату заполнил яркий солнечный свет.
– Прошу прощения, милорд, – сказал Смолл. – Я не думал, что вы уже проснулись.
– Это не имеет значения, – ответил Лазарус, снова обращаясь к своему переводу. Слова прояснились, но он еще не мог правильно расположить их.
– Мне позвонить, чтобы вам принесли завтрак?
– Мм…
– Готовы ли вы заняться вашим туалетом?
Бах! И все пропало. Лазарус раздраженно бросил перо и откинулся на спинку стула. Смолл мгновенно приложил к лицу хозяина нагретую влажную салфетку.
Движения слуги были быстрыми и умелыми, а руки – мягкими, как у женщины.
Лазарус закрыл глаза, расслабляясь, по мере того как жаркая влажность впитывалась в его кожу. Он вспомнил светло-карие глаза миссис Дьюз, увиденные им прошлой ночью. Вспомнил, как она зажмурила их от удовольствия, когда он кормил ее сливовым пирогом. Как она в гневе прищурила их, когда он спросил, почему она не взяла пирог сразу. Смена ее настроения совершенно очаровывала его. Ее вспыхнувший гнев был так горяч, что Лазарус почти чувствовал его жар. И его тянуло к ней, совсем как кошку притягивает тепло очага. Ее эмоции были незнакомы ему, неуправляемы, действовали возбуждающе и казались страшно интересными – а она так старалась скрыть их. Почему? Ему хотелось понаблюдать, проникнуть в их глубину и увидеть, как она краснеет, как учащается ее дыхание. Что могло бы рассмешить ее? А что могло испугать? А как бы ее глаза менялись в постели? Попыталась бы она сдержаться, или плотские ощущения оказались бы сильнее?
Странные мысли для такого раннего часа. Лазарус никогда не интересовался чувствами женщины. Она была всего лишь сосудом для удовлетворения его похоти. Но миссис Дьюз оказалась интересной женщиной.
Смолл снял салфетку и намылил пеной щеки хозяина. Лазарус не открывал глаз, не желая показать, как ему неприятно прикосновение бритвы к щекам. Он вцепился в подлокотники кресла. Допустить еще одно прикосновение было истинным испытанием, что частично объясняло, почему он подвергается этим самым обычным манипуляциям каждое утро. Ему доставляло какое-то удовлетворение испытать страх и победить его.
Слуга закончил левую щеку, и Лазарус повернул голову, с дрожью отвращения подставляя правую щеку. Лазарус не мог не поморщиться, когда Смолл провел бритвой над его верхней губой. Когда-то, когда он был совсем маленьким, он испытал прикосновение, которое не напугало, не вызвало отвращения и не причинило ему немедленной боли.
Но это было очень давно, и этот человек уже давно умер.
Смолл вытер остатки мыльной пены с лица Лазаруса, и тот открыл глаза.
– Спасибо.
Если слуга и знал, какую боль он причиняет хозяину, этого нельзя было заметить по спокойному выражению его лица.
– Что вы сегодня наденете, милорд?
– Черные шелковые штаны и камзол с вышитым серебром жилетом.
Лазарус встал и сбросил халат на стул. Смолл подал ему одежду.
– И не забудь мою трость, – сказал Лазарус, пока слуга перевязывал его волосы черной бархатной лентой.
– Не забуду, милорд. – Смолл с сомнением взглянул в окно. – Вы куда-то едете?
– Я должен навестить мать, – невесело улыбнулся Лазарус. – И надо сделать этот визит как можно скорее.
Он взял протянутую Смоллом трость и, не ожидая ответа, вышел из комнаты.
Хозяйская спальня имела дверь, выходившую в верхний широкий коридор с панелями из резного дерева. Этот городской дом принадлежал семейству Кэр еще со времен деда. Теперь это уже была не самая фешенебельная часть Лондона, но дом был большим, величественным, и от него веяло старыми деньгами и властью.
Лазарус спустился по лестнице, скользя рукой по розовым перилам. Этот камень привезли из Италии, вырубили, вырезали и отполировали до зеркального блеска. Лазарус понимал, что, касаясь этого холодного гладкого камня, он должен что-то чувствовать. Может быть, гордость? Или ностальгию? Но он не чувствовал ничего особенного.
Совсем ничего.
Он спустился в нижний холл, и взял у дворецкого свой плащ и треуголку. На улице было ветрено, и носильщики портшеза замерзли, ожидая хозяина. Его портшез был новым, сделанным по заказу, снаружи его украшали черная эмаль и серебро, а внутри лежали алые плюшевые подушки. Один из носильщиков откинул верх, Лазарус ступил между поручнями и сел в портшез. Переднюю дверку закрыли и заперли, а верх опустили. Носильщики подняли портшез и отправились по лондонским улицам.
Лазарус гадал, что заставило мать вызвать его? Не собирается ли она снова просить денег? Это было маловероятным, поскольку она имела от него щедрое пособие и владела несколькими собственными имениями. Может быть, на старости она увлеклась азартными играми? Он громко фыркнул.
Носильщики остановились, и Лазарус вылез из портшеза. Дом, который он купил для матери, был небольшим, но весьма роскошным. Она жаловалась – все еще жаловалась, – что он заставил ее покинуть Кэр-Хаус.
В доме дворецкий проводил его в раззолоченную до неприличия гостиную. Лазарус просидел добрые полчаса, рассматривая золоченые завитушки на коринфской колонне, охранявшей дверь. Он мог уйти, но ему все равно пришлось бы когда-то разыграть этот фарс. Так уж лучше покончить с этим побыстрее.
Она вошла так, как входила всегда – остановившись в дверях на долю секунды, чтобы поразить своей красотой всех присутствующих.
Лазарус зевнул.
Сайленс сурово посмотрела на сестру:
– Ты пытаешься перевести разговор на другое.
Темперанс вздохнула и опустилась на стул.
– Только никому не говори, Сайленс. Пожалуйста, не говори. Я уже взяла у лорда деньги, чтобы заплатить ренту – вот таким образом мы выплатили долг.
– Но Уинтер наверняка в конце концов узнает об этом. Как ты ему объяснила оплату ренты?
– Я сказала ему, что продала кольцо, которое подарил мне Бенджамин.
– О, Темперанс! – Сайленс в ужасе зажала рукой рот. – Ты солгала Уинтеру?
Но Темперанс покачала головой:
– Это единственная надежда спасти наш приют. Подумай сама, что будет с Уинтером, если приют закроют.
Сайленс отвела глаза. Из всех братьев Уинтер больше всех был предан отцу и помогал ему в благотворительной деятельности. Если приют прекратит свое существование, это будет для Уинтера страшным ударом.
– Пожалуйста, Сайленс, – прошептала Темперанс. – Ради Уинтера.
– Хорошо, – кивнула Сайленс. – Я не скажу нашим братьям…
– О, спасибо тебе!
– Если только не почувствую, что ты в опасности.
– Этого не будет, могу тебе обещать.
Лазарус проснулся от беззвучного крика. Он распахнул глаза и некоторое время просто лежал, обводя взглядом комнату, стараясь вспомнить, где находится. Затем он узнал свою собственную спальню. Темно-коричневые стены, старинная, внушительного вида мебель и кровать с зелено-коричневым пологом. Раньше здесь спал отец, и Лазарус, получив в наследство титул, не потрудился что-либо изменить. Глядя в окно, он чувствовал, как медленно расслабляется каждая мышца его тела. Наступал бледный рассвет, Лазарус потянулся, не одеваясь, подошел к высокому туалетному столику и плеснул в лицо холодной водой, затем, надев желтый парчовый восточный халат, сел за стоявший в углу элегантный столик вишневого дерева – единственный предмет обстановки, который он добавил в эту комнату. Отец не одобрил бы привычку писать что-то в дезабилье.
Лазарус усмехнулся. Затем снял крышку с чернильницы и принялся за свой перевод. Катулл в этой поэме особенно язвительно высказывался о Лесбии. Лазарусу хотелось подобрать правильное слово, в совершенстве подходящее слово, которое сияло бы, как бриллиант на изысканном кольце. Эта работа требовала точности и внимания, и он мог заниматься ею часами.
Чуть позднее в комнату вошел слуга Смолл, и Лазарус увидел, что комнату заполнил яркий солнечный свет.
– Прошу прощения, милорд, – сказал Смолл. – Я не думал, что вы уже проснулись.
– Это не имеет значения, – ответил Лазарус, снова обращаясь к своему переводу. Слова прояснились, но он еще не мог правильно расположить их.
– Мне позвонить, чтобы вам принесли завтрак?
– Мм…
– Готовы ли вы заняться вашим туалетом?
Бах! И все пропало. Лазарус раздраженно бросил перо и откинулся на спинку стула. Смолл мгновенно приложил к лицу хозяина нагретую влажную салфетку.
Движения слуги были быстрыми и умелыми, а руки – мягкими, как у женщины.
Лазарус закрыл глаза, расслабляясь, по мере того как жаркая влажность впитывалась в его кожу. Он вспомнил светло-карие глаза миссис Дьюз, увиденные им прошлой ночью. Вспомнил, как она зажмурила их от удовольствия, когда он кормил ее сливовым пирогом. Как она в гневе прищурила их, когда он спросил, почему она не взяла пирог сразу. Смена ее настроения совершенно очаровывала его. Ее вспыхнувший гнев был так горяч, что Лазарус почти чувствовал его жар. И его тянуло к ней, совсем как кошку притягивает тепло очага. Ее эмоции были незнакомы ему, неуправляемы, действовали возбуждающе и казались страшно интересными – а она так старалась скрыть их. Почему? Ему хотелось понаблюдать, проникнуть в их глубину и увидеть, как она краснеет, как учащается ее дыхание. Что могло бы рассмешить ее? А что могло испугать? А как бы ее глаза менялись в постели? Попыталась бы она сдержаться, или плотские ощущения оказались бы сильнее?
Странные мысли для такого раннего часа. Лазарус никогда не интересовался чувствами женщины. Она была всего лишь сосудом для удовлетворения его похоти. Но миссис Дьюз оказалась интересной женщиной.
Смолл снял салфетку и намылил пеной щеки хозяина. Лазарус не открывал глаз, не желая показать, как ему неприятно прикосновение бритвы к щекам. Он вцепился в подлокотники кресла. Допустить еще одно прикосновение было истинным испытанием, что частично объясняло, почему он подвергается этим самым обычным манипуляциям каждое утро. Ему доставляло какое-то удовлетворение испытать страх и победить его.
Слуга закончил левую щеку, и Лазарус повернул голову, с дрожью отвращения подставляя правую щеку. Лазарус не мог не поморщиться, когда Смолл провел бритвой над его верхней губой. Когда-то, когда он был совсем маленьким, он испытал прикосновение, которое не напугало, не вызвало отвращения и не причинило ему немедленной боли.
Но это было очень давно, и этот человек уже давно умер.
Смолл вытер остатки мыльной пены с лица Лазаруса, и тот открыл глаза.
– Спасибо.
Если слуга и знал, какую боль он причиняет хозяину, этого нельзя было заметить по спокойному выражению его лица.
– Что вы сегодня наденете, милорд?
– Черные шелковые штаны и камзол с вышитым серебром жилетом.
Лазарус встал и сбросил халат на стул. Смолл подал ему одежду.
– И не забудь мою трость, – сказал Лазарус, пока слуга перевязывал его волосы черной бархатной лентой.
– Не забуду, милорд. – Смолл с сомнением взглянул в окно. – Вы куда-то едете?
– Я должен навестить мать, – невесело улыбнулся Лазарус. – И надо сделать этот визит как можно скорее.
Он взял протянутую Смоллом трость и, не ожидая ответа, вышел из комнаты.
Хозяйская спальня имела дверь, выходившую в верхний широкий коридор с панелями из резного дерева. Этот городской дом принадлежал семейству Кэр еще со времен деда. Теперь это уже была не самая фешенебельная часть Лондона, но дом был большим, величественным, и от него веяло старыми деньгами и властью.
Лазарус спустился по лестнице, скользя рукой по розовым перилам. Этот камень привезли из Италии, вырубили, вырезали и отполировали до зеркального блеска. Лазарус понимал, что, касаясь этого холодного гладкого камня, он должен что-то чувствовать. Может быть, гордость? Или ностальгию? Но он не чувствовал ничего особенного.
Совсем ничего.
Он спустился в нижний холл, и взял у дворецкого свой плащ и треуголку. На улице было ветрено, и носильщики портшеза замерзли, ожидая хозяина. Его портшез был новым, сделанным по заказу, снаружи его украшали черная эмаль и серебро, а внутри лежали алые плюшевые подушки. Один из носильщиков откинул верх, Лазарус ступил между поручнями и сел в портшез. Переднюю дверку закрыли и заперли, а верх опустили. Носильщики подняли портшез и отправились по лондонским улицам.
Лазарус гадал, что заставило мать вызвать его? Не собирается ли она снова просить денег? Это было маловероятным, поскольку она имела от него щедрое пособие и владела несколькими собственными имениями. Может быть, на старости она увлеклась азартными играми? Он громко фыркнул.
Носильщики остановились, и Лазарус вылез из портшеза. Дом, который он купил для матери, был небольшим, но весьма роскошным. Она жаловалась – все еще жаловалась, – что он заставил ее покинуть Кэр-Хаус.
В доме дворецкий проводил его в раззолоченную до неприличия гостиную. Лазарус просидел добрые полчаса, рассматривая золоченые завитушки на коринфской колонне, охранявшей дверь. Он мог уйти, но ему все равно пришлось бы когда-то разыграть этот фарс. Так уж лучше покончить с этим побыстрее.
Она вошла так, как входила всегда – остановившись в дверях на долю секунды, чтобы поразить своей красотой всех присутствующих.
Лазарус зевнул.