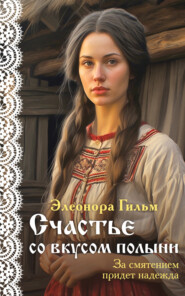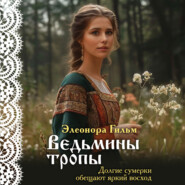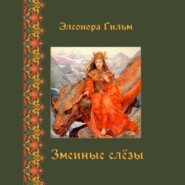По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Искупление
Автор
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сколько помнил он, жили впроголодь, по чужим дворам. Родители сказывали, был у них дом хороший, да уехали оттуда. Почему – Бог весть. Покинули родные места, выстроили дом новый – а он сгорел. Так и скитаются по чужим людям. Было в семье трое детей – две девки и сын, Грязной. Осталось двое. Средняя сестра померла с голоду.
Соломенная лежанка, тряпки вместо одеяла, замусоленные миски, вши и блохи.
Отца они видели редко, он искал работу в соседних деревушках, нанимался за кусок хлеба и чарку хлебного вина чистить овины, латать сараи и нужники. Самая грязная работа, скудная плата. Семье ничего не перепадало, питались они объедками с чужого стола. Грязной привык. К одному привыкнуть сложно – отцовой ярости.
Отец худой, злой. Мать бил, Грязного бил. Сестру не трогал почти. Так, с устатку.
Матери кричал слова обидные. Ругал ее последней… Нет, язык не поворачивается повторить такое. А мать не спорила. Не ревела. Грязного только в сенник отправляла, что к сараюшке вверху пристроен. Мол, залезь, схоронись, батя тебя не найдет. А Грязной знал уже, это не поможет. Спрячешься где, потом вдругорядь яростнее отлупит. Мол, наука тебе.
Дальние родичи, сами голытьба с четырьмя детишками, пустили по доброте душевной. Мать и детей звали иногда к столу, давали обноски со своего плеча. Грязной уже стал называть домом щелястую сараюшку, где последние три месяца ютилась семья.
Наступила зима, и каждый вечер Грязной пытался согреться под дырявой собачьей шкурой. Мать заболела седмицу назад, шептала: «Больно, Господи», сейчас она заснула, перестала стонать. Грязной откинул шкуру, пригляделся: затихла, улыбнулась вроде. Он обрадовался. На поправку пошла. Рядом мычала худая корова, ребра проступали сквозь ее плешивую шкуру. А мать лежала спокойно на куче тряпья. Ревела сестра, размазывала слезы по веснушчатому лицу.
– Улыбаешься, дурень? – Сестра старше лет на пять, а нос задирала, будто взрослая. Да и вообще злая. Как отец.
– Спит ведь.
– Не спит она… Мертвая.
Он стал трясти мать, кричать: «Проснись! Ты живая!» – а она ничего не отвечала своему младшему сыну, и сон ее был бесконечен. Сестра отогнала мальчишку от тела матери, буркнула: «Иди за теткой, а потом отца ищи».
– Убллюдддок, те… че? – Язык тятин не ворочался, застревал в словах, как гребешок в колтунах.
Отца Грязной нашел, лишь оббежав все дома.
Услышав скверную весть, отец избил Грязного. По обыкновению.
Схоронили мать, нищенские поминки еле вытянули… И скоро родичи выгнали вдовца-пропойцу на улицу, сладу с ним теперь и вовсе не было. Сестре повезло – они согласились приютить ее, оставили, чтобы она нянчилась с ребятишками.
Отец и сын ночевали в сараюшках, заброшенных домах, просились в богатые дома. Порой из жалости их привечали. Но скоро гнали прочь, отец не мог ужиться ни с кем. Он цеплялся к каждому слову, взгляду, движению. Бил еще яростнее. Материл злее.
Во время очередного бесконечного пути от села до села отец, пряча лицо под колпаком, подошел к высокой изгороди и ткнул Грязного к воротам:
– Здесь жить будешь. С тобой, спиногрызом, валандаться не собираюсь. На грех пойду, пришибу.
Отец всегда приносил Грязному боль, мучения, горести. Но не теперь. Этот день стал самым счастливым в паскудной жизни маленького оборванца.
* * *
– Иди сюда, – притянула к себе Аксинья парнишку, погладила ежик волос.
– Вы не прогоните меня?
– Нет, Матвей, не выгоним. Здесь твой дом. – Анна улыбнулась.
– Я Грязной, не Матвей. Так меня все кличут.
– Грязной – не имя, а прозвище. А мы звать тебя будем Матвеем.
– Матвей… Матвейка… Мне по душе. Вы не выгоните меня? Скажите. – Он сыпал словами, будто камешками на речном берегу.
– У нас будешь жить, не бойся. Как мы теперь без тебя.
Нюта уже давно сопела в своей люльке, отмытый мальчишка свернулся клубочком на узкой лавке, Уголек обнюхивал углы и тревожно косился на печь. Чуял мышей или домового.
– Софье правду скажем?
– Не будем таить.
– Но она… Матушка, она и так невзлюбила мальчишку… А как узнает, сожрет нас…
– Ничего, покричит и замолкнет. Куда денется, я хозяйка в этом доме.
Остаток вечера они провели в молчании. Каждая дивилась в душе прихотям Божьей воли, которая привела к ним Грязного.
* * *
– Идет, гузкой трясет.
– Девку свою тащит, в церковь-то зачем?
– Дитя греха. Отмолить хотят. А не получится!
– Ишо парнишку какого-то подобрала.
– Мож, ейный выпороток[2 - Выпороток – недоносок.]. В девках родила да припрятала до поры.
– Дарья, ты языком не молоти. Приблудился хлопец, у них теперь живет.
– Растлит парнишку.
– И Анька под стать дочери-блуднице.
– Вольна баба в языке – а черт в ейном кадыке, – мужской голос перекрыл кудахтанье.
Аксинья почувствовала волну благодарности к Игнату. Один из немногих односельчан, кто не сторонился ее, помогал, привечал добрым словом. Когда-то Григорий, муж Аксиньи, взял в подручные шумного, говорливого парня, выучил своему мастерству. Теперь Игнат – хозяин кузни. Вместе с Зоей живет он в той избе, где когда-то Аксинья хлопотала, ждала мужа, верила в свое счастливое будущее.
Не надо окунаться в прошлое, омут затянет с головой.
– Здоровья вам. Это ж откуда молодца такого взяли? – Игнат догнал их, кивнул Аксинье, наклонил голову в знак уважения перед Анной, улыбнулся мальчишке.
– Сам пришел.
– Ишь как! Хоть мужик в семье будет. Как звать-то мужика?
– Матвейка.
– Доброе имя.