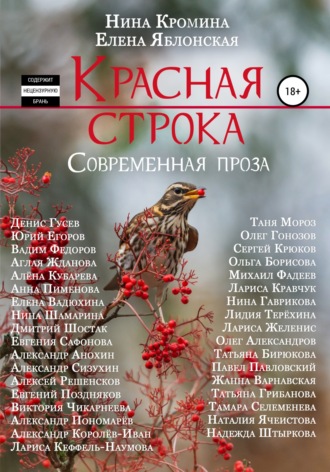
Красная строка. Сборник 3
Том, включивший и роман, и повесть, и ряд рассказов, был издан спустя десять лет после несчастного случая с Евой, в 2012 году, стараниями всё того же Рекемчука. Он же приводил рукопись романа «в чувство» – у писательницы был только черновой вариант.
Кстати, о рассказах Евы. Они – настолько разные, что иногда сомневаешься: точно ли автор – один и тот же человек? Их печатали в сборнике «Кольцо «А», в журнале «Новый мир».
Незадолго до исчезновения Ева устроилась в журнал «Пролог» редактором отдела критики, публиковала в издании свои статьи. Особенно обращали на себя внимание очерки о детской литературе (я их видела; однако большая часть архива утеряна, и, боюсь, безвозвратно; если б знала, что будут писать это эссе, возможно, я бы что-то спасла!). Ева сетовала, что её больше нет. К счастью, за двадцать лет в этом отношении кое-что изменилось в лучшую сторону. У нас теперь есть и «Дневник Кото-сапиенса» Тамары Крюковой, и «Калечина-Малечина» Евгении Некрасовой, и «Дом, в котором…» Мариам Петросян. Хотя, безусловно, хороших отечественных книг для юных по-прежнему не хватает.
Как сказано в статье Марии Ряховской, написанной в 2014 году, «Ева не пропала без вести в литературе – а значит, во времени и пространстве». Хотелось бы думать, что так оно и есть…
Возможно, я слишком активно искала. И потому, как мне показалось, нашла…
В 2016 году вышла книга Романа Сенчина «Дождь в Париже». И, когда я дошла до места, где описывается Женечка, вторая жена главного героя – Андрея Топкина, я задумалась: а не списана ли героиня, хотя бы частично, с Евы?
В самом деле, сходства много. И вот какие аргументы – в пользу.
В 1996 году почти 25-летний – взрослый на фоне большинства студентов, вчерашних школьников – Роман Сенчин приехал в Москву поступать в Литинститут. Несмотря на солидный – для начинающего – литературный багаж, сборник, изданный в Иркутске, писатель наверняка волновался: как его примет столица? Надо сказать, что первые отзывы на его творения были разными, вплоть до ругательных (нынешние, впрочем, тоже всякими бывают, взять хотя бы опусы критика Валерии Пустовой).
Но Ева Датнова, едва увидев сборник, тут же написала хвалебную статью, которую тиснула в популярном издании, чуть ли не в «Литературной газете» (по-моему, я её даже читала). По словам Евы выходило, Сенчин – тот самый новый нестандартный талант из глубинки, которого все так ждали, и вот дождались. Буквально гений. А кто не понял, тот ничего не смыслит в искусстве. Впоследствии Ева также не раз защищала писателя от нападок, письменно и устно, как тигрица, набрасываясь на тех, кто осмеливался ругать его вещи. Она была страстной натурой и всегда яростно сражалась за тех, кто был ей близок по духу. Причём неважно, дружила ли она с ними на самом деле или нет.
Конечно, такой приём не мог не понравиться. Кто бы не испытал, рассуждала я, чувство благодарности? А несчастье, произошедшее впоследствии с Евой, могло глубоко тронуть и невольно отразиться в творчестве.
Многие детали в романе «Дождь в Париже», связанные с Женечкой, указали мне на Еву. Внешний вид героини: маленькая, рыженькая, пухленькая – «сдобная булочка». Смешная. Кстати, внешность Женечки удивительным образом совпадает с наружностью Малышки из «Диссидеточек» (напомню, героиню Ева писала с себя). Самое интересное, сама Ева выглядела несколько иначе. Но она хотела, чтобы окружающие её воспринимали именно так, как она себя описала. И ей, кажется, это удалось.
Второе – возраст героини. В романе точно указано, что Женечке было девятнадцать (почти двадцать), а Андрею Топкину – двадцать четыре, когда они познакомились. И «прожили в браке» они два года, то есть ровно столько, сколько длилось сравнительно плотное общение Романа с Евой, пока она училась в Литинституте (когда Роман только поступил, Ева уже перешла на четвёртый курс).
Третье – имя. Ева – это псевдоним, по паспорту писательница была Евгенией: «Женечке очень подходило её имя. Такая пухленькая куколка, каких делали в СССР, но в ней в любой момент мог проснуться пацанёнок и повести её чёрт знает куда»[9].
Четвёртое – характер. Андрей Топкин в романе Сенчина удивляется подвижности своей супруги. Она успевает бывать почти на всех значимых мероприятиях – в городе и за пределами, знает уйму интересных людей и на протяжении двух лет семейной жизни чуть ли не ежедневно таскает своего мужа на встречи с ними. Интересуется буквально всем на свете (вспомним обширность интересов Евы) и ещё умудряется постоянно и в огромном количестве читать!
Есть ещё несколько косвенных указаний. Например, упоминание в романе Сенчина «клуба двадцати семи» – списка музыкантов, погибших в результате суицида или при странных обстоятельствах в возрасте до 27 лет. Туда же писатель добавляет коллег по цеху… Напомню, Ева пропала без вести, когда ей было двадцать шесть лет от роду, без трёх месяцев двадцать семь.
Я написала автору «Дождя в Париже», прямо спросила: верны ли мои догадки? Писатель откликнулся – вовсе нет! Вот ответ дословно: «Еву Датнову не вспоминал, когда писал Женечку. Но сейчас вижу, что сходство есть».
Так что же, все мои мудрствования – зря? Или… я наткнулась на потаённое, выраженное Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора…»?
Мне действительно хочется, чтобы Ева продолжала жить. Хотя бы в качестве персонажа.
Иногда люди, которые начали писать в зрелом возрасте, с завистью смотрят в сторону «молодых, да ранних»:
– Везёт вам! Столько времени впереди! – имея в виду, что молодёжь уж точно успеет дорасти до большущих эпохальных произведений. Но, к сожалению, часть из тех, кто в юности начинает, рано и заканчивает. Разочаровывается в творчестве. Уходит в другие – «земные» – профессии. Или, увы, из жизни. Не удерживает даже наличие семьи и детей. Хлебнув ранней славы, мне кажется, некоторые не выдерживают следующего за взлётом творческого простоя, воспринимаемого как падение. Исчерпав жизненные впечатления, полагают, что больше не смогут ничего (а как же Юрий Олеша, опубликовавший в двадцать семь лет роман «Зависть», а потом писавший, из известного широкой публике, только отрывки, наброски и «заготовки для чего-то»? Но от таких примеров молодые отмахиваются).
Александр Башлачёв, Борис Рыжий, Дмитрий Шостак, Евгения Сафонова. Ева Датнова, на мой взгляд, стоит в том же ряду молодых, талантливых, безвременно ушедших. И хотя со стороны кажется, будто произошедшее с ней – лихо неожиданное и непредвиденное, всё же, думаю, это – «частный случай закономерности».
В биографии Евы – минимум одна попытка суицида. Она, будучи ещё студенткой Лита, наглоталась сильнодействующего лекарства, но тогда её спасли врачи. Кроме того, у писательницы в последние перед исчезновением годы были проблемы с алкоголем. Плюс – неудачи в личной жизни… Человека, способного удержать её на плаву, не нашлось. А помощь родных оказалась, по всей видимости, недостаточной.
Скажут: такими должны заниматься психологи и психиатры. Отчасти согласна. Поэтому и назвала эссе «Случай Евы». То есть в чём-то её жизнь – именно клинический случай. Медленного убивания себя.
И всё же… спасибо «вечно молодым». За их вклад в культуру. А больше – за надежды. Жаль, не воплощённые в жизнь.
Цунами советской эстрады
Меня всегда волновал вопрос: почему люди не всегда помогают попавшему в беду другу, родственнику, возлюбленному? Почему не протягивают – так кажется со стороны – руку упавшему? Почему не бегут лечить страдающего алкогольной зависимостью, нарко – или игроманией, не спешат обратиться к психологам и наркологам? Неужели всё дело – в «дурной» репутации этих специалистов и учреждений, где они трудятся, – дескать, там залечат, ошельмуют и т. п.? Или в чём-то другом?
17 марта 2022 года в Нотно-музыкальной библиотеке имени Юргенсона прошла презентация книги Валерии Ободзинской «Валерий Ободзинский – цунами советской эстрады». Готовясь к встрече, я ещё раз пробежала глазами книгу, с которой «нахожусь в связи» уже три с половиной года (конечно, не столько, сколько сама автор, но всё же довольно долго – для читателя; как мне думается, достаточно, чтобы сжиться с книгой и вжиться в неё) – с осени 2018-го, когда поступила на курс литмастерства А. Ю. Сегеня в Литературный институт и познакомилась с Валерией.
Мне стало грустно. Как всё скоротечно! Какой ценой достаётся слава! Хотя если учесть, что герою книги – Валерию Владимировичу – в 2022 году исполнилось бы 80 лет, и его уже 25 лет нет с нами, а мы всё ещё вспоминаем спетые им песни – «Восточную», «Эти глаза напротив», «Где же ты?», а ещё «Мечту», «Анджелу», «Из вагантов», эту славу нельзя назвать скоротечной.
Валерия Ободзинская проделала огромную работу – собрала колоссальное количество материала, а сделать это было сложно: писательница почти не знала своего отца как артиста – в силу возраста практически не застала, не могла участвовать в этой части его жизни. Ей пришлось звонить и писать в Одессу, в города Сибири – именно там зарождалась и расцветала карьера певца; общаться со свидетелями – музыкантами, композиторами, поэтами, коллегами Ободзинского по цеху, поклонниками; рыться в архивах… Но для меня – не это главное. Помимо блестящей литературной обработки – талант повествовательницы особенно виден в сценах, где есть диалоги, в том числе внутренние (автору наверняка приходилось если не сочинять полностью, то уж точно домысливать, с какими интонациями говорили герои, какие специфические словечки употребляли), удивляет, с какой деликатностью, а подчас – и с любовью «нарисованы» второстепенные персонажи. Ведь это сложно – описывать историю, многие участники которой – живы… Можно нарваться на «цензоров»! Но Валерия умело обошла скользкие повороты, не заходя в грязные закоулки судеб, не выставив мерзавцами даже тех, кто сыграл роковую роль в судьбе артиста. Оттого читать книгу вдвойне приятно. При этом все явления, в общем-то, названы своими именами – честно, без прикрас.
Конечно, книга Валерии Ободзинской – не только о печальной судьбе. Здесь и приключения, забавные случаи, хулиганства и даже криминал. Кстати, автор своего героя, ввязывавшегося в сомнительные истории ради блестящего будущего, не оправдывает.
Местами, особенно где речь идёт о детстве и юности Ободзинского, текст настолько плотен, что его довольно сложно – мне! – воспринимать. Начинаю путаться в именах, происшествиях. Получается такое «цунами событий», когда одна волна нахлёстывается на другую, и в результате я будто захлёбываюсь – не могу понять, кто, где, когда и почему (во время презентации, благодаря блестящей, смело могу сказать, игре актёра Романа Кириллова, всё воспринималось лучше).
С другой стороны, записать это книге в минус я не могу, так как непонятности заставляют внимательнее вчитываться, иногда – по нескольку раз, лезть в Интернет за дополнительной информацией, тем самым лучше запоминая. И всё-таки, для будущих переизданий – а я уверена, что они нужны! – хотелось бы больше подробностей. Ну, чтобы получился настоящий исторический роман!
Возвращаюсь к вопросу о непротянутой руке. Почему близкие не помогли Валерию, когда заметили, что с ним – что-то не так? Возможно, обратили внимание слишком поздно. Возможно, помешал самим же певцом созданный образ непобедимого Цуны, которому все препятствия – нипочём. «Я – одессит, я из Одессы, здрасьте. Хочу открыть вам маленький секрет…», – напевал Ободзинский песенку Бубы Касторского из «Неуловимых мстителей», желая показать, что трудности – дело мимолётное, а он со всем справится, всё и всех на себе, как обычно, вывезет, и вообще, он – баловень судьбы. Или помочь было невозможно, потому что он сам этого не хотел? Ведь столько сил было вложено в достижение успеха! Уму непостижимо, сколько концертов певец давал в день и месяц во время гастролей. В книге есть эпизод, где один из музыкантов коллектива, который аккомпанировал Валерию, жаловался, что под конец рабочего дня, плавно перетёкшего в ночь, уже не понимал, как и что играет – буквально не чувствовал пальцами струн, ладов и так далее. То есть непосильная нагрузка, высочайшие требования к себе и окружающим просто истощили силы певца раньше времени, и он сам – не то чтобы сдался, а отказался от всего. Просто устал, выдохся. Ведь силы человеческие имеют предел. Но каково это наблюдать со стороны! Тем более, мы знаем долгие истории успеха – того же Иосифа Кобзона, Льва Лещенко и многих других. Пятьдесят пять лет, как и Ободзинский, прожил только один из известных на весь Советский Союз конкурентов – Георг Отс. Но и то карьера последнего шла в гору. Или, по крайней мере, не оборвалась так драматично.
Завершая, хочется выразить признательность Валерии. Действительно, книга нужна. Нам всем. Побольше бы таких исследований – вместо сложно слепленных и разнонаправленных «посторонних Венедиктов Ерофеевых» и тому подобных «полудиссертаций».
И побольше нам радости от собственных побед!
Виктория Чикарнеева
Сказки не будет
(о книге Евгении Сафоновой «Дочь человечья. История одного воплощения». Рассказы. – Москва, ООО «Новое Слово», 2022, 282 с.)
Иногда хочется исполнения самого простого желания. Хочется открыть почтовый ящик и прочитать письмо: «Привет, Вика! Как твои дела? У меня все хорошо, я отправляю тебе мой новый рассказ. Позвони, когда прочитаешь. Женя». И тогда с ужасом понимаешь, что самые простые желания неосуществимы.
Передо мной книга Жени. И я не очень хорошо представляю, что сказать. Я до сих пор не понимаю, что Женя ушла. При первом нашем тесном общении (мы переписывались почти всю ночь морозным январем 2010 года) она сказала, что у нее шизоидный тип мышления, ей хотелось бы, чтобы ее звали Евдокией. И я сразу поняла, что мы сойдемся. С Женей было легко. Можно было просто молчать, и мы понимали друг друга без слов.
Я давно не читала Жениных работ и сейчас, спустя много лет, посмотрела на них по-другому. Ее проза неповторима, она никого не копирует. Раньше мне казалось, что рассказы похожи на прозу Вирджинии Вульф, такой поток сознания. Сейчас я бы сказала, что Женины рассказы живут по правилам Жениной жизни. Иногда в рассказах видится некий абсурд, но он настолько сочетается с реальностью, что ты веришь в происходящее. Как будто перед нами жизнь в виде мозаики и часть фрагментов реальности, а часть – абсурда. И, главное, пазлы идеально подходят друг к другу. Мы верим, что герои мира Маркеса заболевают загадочной болезнью, верим в появление умерших персонажей. Так же и верим в Жениных героев.
На мой взгляд, одна из особенностей Жениной прозы в том, что она вдыхает жизнь в неживые предметы или в явления природы или преподносит живых людей в качестве неживых. Это и создает магический штрих. Например, «мужчина – воздушный шарик, не ходит, а летает, парит над тротуаром», «лужа была разлита», «утро рождается», «сантехник варится в собственном поту».
Еще одна особенность – яркие краски. Радуга играет в произведениях: темно-оранжевый, как хурма, свет; апрель сшит белыми нитками; весь мир лилового цвета; красная, как кровь; алая помада. Помимо яркой игры красок все рассказы проникнуты запахами и звуками. Ты просто ощущаешь, как дышит в лицо жизнь. Тут примеры я не стала выписывать, просто напишу на память: запах утра, свежесваренного кофе, ароматы весны.
Из следующих особенностей – обилие символики: двенадцать детей, снящихся главной героине, вино для человечества (интуитивный отсыл к христианству и крови Христовой).
Все эти штрихи работают вместе, они и создают неповторимость прозы Жени. И здесь становится неважно несоответствие с реальной жизнью. Например, сантехники не будут несколько часов чинить засор (у нас стояк поменяли за час в двух квартирах). Но проза Жени живет по другим законам, и ее сантехник будет чистить засор даже полдня, и он соберет осколки чашки для экспертизы. Так же и с другими героями, не буду приводить примеры по каждой работе, это займет много времени для чтения.
Лично для меня очевидно, что рассказы построены по принципам магического реализма. Думаю, что у Жени это получалось интуитивно, а не специально. Поэтому рассказы такие одухотворенные, рассказы, они рождаются, как то утро из одноименного рассказа.
Также стоит отметить, что над текстами проведена хорошая работа, нет шероховатостей, ошибок, повторов. Я не знаю, кто проводил редакторскую работу, но нельзя не заметить, что рассказы выверены с ювелирной тонкостью.
Во второй части книги, написанной Жениной мамой, я наконец-то узнала, что же случилось с Женей. И эта часть не менее проникновенна, чем первая. Необходимо большое мужество, чтобы суметь это написать.
Как бы хотелось сейчас, как в сказке, открыть почтовый ящик и увидеть там долгожданное письмо. Но сказки не будет.
Елена Яблонская
И журавль, и синица…
(отзыв на книгу Нины Шамариной «Синица в небе», Москва, ООО Издательство «Культурный центр "Фелисион"», 2021, 272 с.)
«Синица в небе» – третья книга Нины Шамариной. Наверное, «три» и вправду мистическое число, потому что книга оказалась замечательной, удивительной, почти совершенной. Интересно, какими же будут четвёртая, пятая, шестая?.. Наконец, седьмая книга? Потому что число «семь», возможно, не менее мистично, чем «три». Впрочем, я совсем не считаю, что качество написанного должно улучшаться, прогрессировать от книги к книге, а каждый автор непременно должен повышать мастерство и «учиться на своих и чужих ошибках». Думается также, что слово «должен» здесь несколько неуместно. Тем более в случае Нины Шамариной, которая умудрилась стать прекрасным прозаиком после пятидесяти лет. (Замечу в скобках, что Нина этим побила мой «рекорд» – первый рассказ я написала в сорок восемь, в Союз писателей была принята ровнёхонько в пятьдесят.) И уж теперь-то, отработав по тридцать с лишним лет в не самой лёгкой отрасли промышленности и науки (в химии), мы с Ниной точно никому ничего не должны! И всё же, как написались прекрасные книги Нины Шамариной? Кажется, что просто так, невзначай, беспричинно, «ни за что», в виде дара на человека вдруг снизошло вдохновенье! И откуда-то, из волшебного – «мистического» – источника в одночасье пришло мастерство. Нет, это не так (снова замечу в скобках – к сожалению, не так, знаю, что автор бесконечно много работает над словом). Тогда как же? Нина Шамарина с лёгкостью щедрого искреннего человека открывает секрет: любя русскую литературу, восхищаясь Словом, она всю жизнь, с раннего детства всё запоминала, подмечала мельчайшие подробности Бытия, сохраняла их в памяти и в сердце. И наконец позволила им вылиться… (И снова в скобках: точно так же было и у меня!)
И тем не менее о пресловутом «писательском прогрессе», хотя повторю: никто никому ничего не должен, и лучше всего, уверена, получается, когда «каждый пишет, как он дышит». Первая книга Нины мне не слишком понравилась: может быть, сыграло неблагоприятную роль то, что книга открывается рассказом о смертельно больной женщине, а я в силу личных обстоятельств не могу, боюсь читать о болезнях. Но так или иначе, все рассказы этой книги мне показались, хотя и безукоризненными в стилистическом отношении, но всё же несколько затянутыми и оттого – скучноватыми. Вторая книга (опубликованная в Интернете) – рассказы о мистических происшествиях. Это чрезвычайно интересно (и упомянутый «прогресс» здесь налицо!), но «мистика» вкупе с Интернетом – совсем не мой жанр. А вот от «Синицы в небе» я в полном восторге! Во-первых, она великолепно оформлена: удобный «карманный» формат (чтобы читать в транспорте), но не тонкая, а в меру толстенькая – ведь так обидно, когда хорошие книги заканчиваются! Эту книгу, впрочем, и я, и очень многие – уверена! – будут перечитывать и перечитывать, принимать как лекарство! Потому что довольно грустные рассказы о хороших, но не слишком счастливых людях удивительным образом внушают надежду и оптимизм. Может быть, этот эффект связан с редким сплавом лиризма и юмора, сквозящего в каждой строке? Умиротворяюще, «терапевтически» действует и сама обложка с жёлтобрюхой – как солнышко – синичкой на в меру голубом с бело-сизыми облачками небе. Небо это – как наша жизнь и как рассказы Нины Шамариной. Отдельный поклон художнице обложки Валентине С.! Во-вторых, сборник рассказов составлен очень умно и грамотно. Собственно рассказы (числом 21) открываются чудесной «Акварелью» – мне трудно даже определить жанр этого восхитительного произведения. Рассказ ли это? А может, эссе? Или «просто» зарисовка, в которой слились воедино природа (дождливый, похожий на осень июль) и судьба человека? Никогда ещё я не встречала такого единения пейзажа и состояния души! Кто у нас мастер пейзажа? Тургенев? Да, конечно, но еще Чехов заметил, что тургеневские проникновенные описания природы слишком уж растянуты, многословны, несовременны для «динамичных» восьмидесятых девятнадцатого века. Что уж о нашем времени говорить… Бунин? Но его великолепные пейзажи не имеют ничего общего с душой человека, скорее противоречат ей, душе, что кажется, заперта от классика на крепчайшие засовы. С кем сравнить? Разве что с самим Чеховым, воспевшим в «Степи» нашу «суровую и прекрасную родину», так полно отразившуюся и в душе, и в мыслях, и в сердце девятилетнего мальчика… Не говорю уж о совершенно новых, свежих, блестящих метафорах Нины Шамариной! Диву даёшься, откуда только автор их берёт! Может быть, и правда, это всё пронесённые через жизнь, но по-прежнему яркие, как в первый день творения «знобящиеся новизной», воспоминания ребёнка, маленькой Нины? И как замечательно и знаменательно, что заканчивается вся книга «Вечерним чаем» – таким же чудесным лирическим рассказом, тоже о даче, о природе, но теперь увиденной не глазами замотанной, неустроенной сорокалетней женщины, а маленькой девочки. Может быть, это дочка героини «Акварели»? Так бывает: мечтала о сыне, а родилась дочь…
После «собственно рассказов» следует небольшой раздел, удачно названный автором «Почти мемуары» (числом «три», и это тот жанр, что я люблю больше всего), потом раздел «Миниатюры» (семь штук, тоже очень интересные, остроумные, разноплановые) и наконец, раздел «НЕ сказки» – «несказок» пять. Три, семь, пять – всё «мистические» числа. Но дело, наверное, не в этом, а в том, что устройство сборника очень гармонично. Сразу сознаюсь, что меньше всего мне понравилась первая «несказка» «Живительный источник» о благородном водителе автобуса, который любил всех пассажиров, а особенно старушек. Может быть, здесь виновата я сама – во-первых, я не люблю и не понимаю сказки, а во-вторых, после прочтения рассказов не была настроена ни на «сказки», ни на «несказки», и мне очень хотелось, чтобы такой замечательный герой как этот водитель был не в сказке, а в действительности (и любил бы меня, старушку). Пожалуй, это единственное произведение в книге, которое показалось мне неоправданно растянутым и скучным, да и еще и лишенным неожиданной эффектной концовки (я с первых строк знала, что «всё будет хорошо»). А ведь неожиданное завершение свойственно всем остальным произведениям Нины Шамариной. «Живительный источник», на мой взгляд, единственное исключение. Остальные «несказки» очень хороши, написаны с юмором, это умные, добрые и грустные сказки для взрослых, скорее, притчи.
И теперь о главном, чем меня восхищает проза Нины Шамариной. Люди, образы героев, они на редкость живые, и все – на этот раз без исключения! – вызывают сочувствие. С каким восторгом читала я рассказ «Розовая шапочка»! Не рассказ, а неспешное повествование о первой любви каменщика Сергея, но тем удивительнее и неожиданней оказалась развязка неторопливой повести. Я сочувствовала этому благородному парню (той же рыцарской когорты, что и водитель автобуса из «Живительного источника»), сокрушалась о его нелепо сложившейся судьбе… Думала: только в баснословные семидесятые и только в нашей стране могли жить такие мужчины, честные, чистые, ответственные… И не в городе, тем более не в Москве, уже тогда заметно развращённой, а только в деревне. Но вот читаю рассказ «Полнолуние» – герой его, кажется, мог бы быть одноклассником Сергея, тоже деревенский парень, без «высшего», вот только профессия другая. Если Сергей – каменщик, строитель, созидатель, то Борис смолоду возит на персональных «Волгах» всякое начальство и, наверное, поэтому весьма осторожен. «Осторожничанье» незаметно выливается в подлость, но герой этого не сознаёт, задавая вечный вопрос обиженных на судьбу: «За что мне это?» Но и ему невольно сочувствуешь. И как же интересно читать и об одном человеке, и о другом! И как хочется, чтобы рассказы были подлиннее, чтобы читать ещё и ещё, и размышлять о человеческих судьбах, и додумывать, продолжая их путь, и так без конца…
Нет, я всё-таки ошиблась! Есть и ещё одно исключение, когда сама автор помешала мне посочувствовать героине и продолжать с ней жить, после того как в рассказе была поставлена точка. Рассказ «Семь дней после Даши». Умирает некая Даша, оставляя двух новорожденных девочек. Героиня Екатерина возится с младенцами, организует похороны, мучится, переживает, но я не испытываю к ней никакого сочувствия, потому что подозреваю подвох: кто эта Даша? Кем она приходится Екатерине? Подруга, сестра, соседка? Почему Екатерина осталась одна с младенцами? Где органы опеки?! Где медики?! Разве можно тащить младенцев меньше недели от роду с собой на кладбище или, наоборот, оставлять одних?! Почему так непросто выбирается место упокоения Даши? Почему похоронить вдруг оказывается «недорого»? Эти несообразности и загадки не дают мне возможности сострадать, меня мучит один вопрос: кто эта Даша? И когда в конце выясняется, что она – кошка, я разочаровываюсь и даже обижаюсь на автора! Особенно потому, что животных очень люблю, и мне приходилось хоронить двух стареньких котов (мне тогда было не до шуток и розыгрышей). Да и прием, мягко говоря, не нов. Уж сколько подобных рассказов было! Например, у В. Пелевина некий Зигмунд, сидящий в венском кафе и многозначительно изрекающий время от времени одно слово. Читатель убежден, что это сам Зигмунд Фрейд, а оказывается, что попугай! Вот если бы с самого начала было сказано, что Даша – кошечка, ах, как бы искренне я сопереживала!

