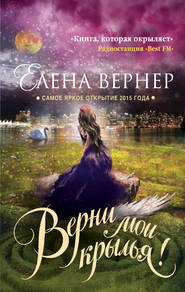По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Купальская ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но тут Катерина не уступила. Одно дело пообедать у давней знакомой, и совсем другое – обременять ее своим присутствием. Часов, проведенных в доме у Оли Дубко, ей хватило, чтобы понять: учительница живет очень скромно. И становиться ее нахлебницей, пусть на пару дней, она не хотела. А денег за проживание Оля не возьмет, это и так ясно, Катерина даже предлагать не стала, побоялась смертельно ее обидеть. Лучше уж идти обратно, в ненавистный пустой дом.
Пообещав еще раз наведаться вечером и позаимствовав тряпки и ведро, Катерина попрощалась с Ольгой. Та все еще хмурилась и всем видом показывала, что именно она думает по поводу Катерининой блажи. В доме, куда она вернулась, Катерина веником смахнула паутину из углов, быстро вымыла пол в двух комнатах и кухне – пришлось несколько раз таскать воду из колонки за воротами. В третью комнату, скрывавшуюся за плотно прикрытой дверью, она так и не зашла, не смогла себя пересилить, будто на невидимую стену наталкивалась. Вынесла на двор весь мусор и тряпье, отодвинула шкаф к стене, и, довольная результатом, зажгла большую красную свечу в стеклянном подсвечнике. Свечу она взяла из дома. С некоторых пор ей верилось, что даже маленький язычок пламени способен отогнать все дурные мысли, поэтому дома свечей она всегда держала множество и зажигала их по вечерам. Эта, ровным пламенем горевшая сейчас на диване рядом с постеленным на пол спальником, была, ко всему прочему, с запахом корицы. Такой теплый, сухой и крепкий аромат. Он обязательно перебьет затхлость, хотя бы в этой комнате, подумала Катерина, оставляя свечу гореть без присмотра. Выйдя за калитку, она прищурилась от бившего в глаза солнца и побрела по поселку, припоминая его устройство.
Последний раз Катерина была тут ровно половину жизни назад, семнадцать лет из прожитых ею тридцати четырех. Но первую половину жизни она гостила тут каждое лето. Сначала у бабушки Тоси с дедой Димой, потом, после смерти деда, у одной бабушки. С тех пор, как выяснилось, Пряслень не слишком изменился. На том же месте районная администрация, выкрашенная в бело-розовый, на той же площади рынок. Однако, большой гастроном на рыночной площади, на крыше которого, как и прежде, сидели сотни голубей, теперь превратился в универсам, как в большом городе: с тележками и раздвижными дверями. Правда, фотоэлемент уже не работал, и, чтобы войти, пришлось сперва потоптаться, ожидая от техники реакции, и только потом рассмотреть обычную дверь рядом. В гастрономе Катерина купила продуктов и воды и спросила кассиршу, где можно приобрести дверной замок. Продавщица смерила ее непонимающим взглядом:
– В хозтоварах.
– А хозтовары… где?
– У Юркова, – и, сообразив, что Катерине это ничего не сказало, добавила:
– А, через дорогу, за цветочным. Только сейчас там уже все закрыто, они до четырех.
Ну да, точно. Здешние магазины закрываются рано, это не большой город, где можно и в полночь ходить за покупками. Рынок с самого утра до полудня. Хозтовары вот до четырех. Чудо, что этот супермаркет все еще открыт. Что ж, придется подождать до утра, а пока ночевать без замка.
Упаковывая продукты в пакет, Катерина поймала полный любопытства взгляд кассирши. Не желая давать ей времени на припоминание своего лица, Катерина сгребла покупки и быстро вышла.
От приближающейся ночи веяло холодком. Здесь, на юге, еще почти не чувствовалось, что наступил сентябрь. Все такие же зеленые деревья и яркие цветы на клумбах и в палисадниках. Но с наступлением вечера жара начинала быстро спадать, не то, что в июле, когда и под утро не отступает липкий зной.
Дойдя до дома, Катерина юркнула в дырку забора уже безо всякого трепета. Утренние переживания при свете догорающего дня казались ей едва ли не забавными. Жизнь вообще имеет обыкновение быстро перекрывать старые чувства новыми, – подумала она про себя. – Жизнь нельзя сдержать. К счастью для всех нас.
Свеча за ее отсутствие сгорела меньше чем на треть, распространив по комнате свой коричневый аромат. Катерина распахнула окно, рискуя напустить комаров, устроилась на спальнике и с аппетитом перекусила принесенным сыром с хлебом, глядя, как солнце уходит за горизонт. Она всегда любила ночь больше, чем день, и с самого детства обожала сидеть на подоконнике этой комнаты, глядя сквозь ветки вишни на закат за рекой.
Погода была совершенно безветренная, и уже начинали таинственно трещать ночные цикады. Ни с того ни с сего свеча вдруг стала чадить и искрить, будто в нее брызнули жиром. Пришлось даже наклонить ее, чтобы распределить парафин, но пламя все равно не выравнивалось. Катерина решила погасить ее – она как раз подумывала над тем, что пора наведаться к Оле до наступления темноты, чтобы потом не бродить в потемках. Надо поблагодарить добрую женщину за гостеприимство и еще раз уверить, что она прекрасно устроилась и здесь. Задув огонь, Катерина бросила взгляд на окно и оцепенела.
В комнате она была не одна.
На подоконнике, забравшись с ногами и поставив подбородок на колени, сидела девушка и смотрела на закат. Ее лица видно не было, но весь силуэт вырисовывался на фоне светлого розовато-синеющего неба графически четко. Узкие, чуть поджатые плечи, скрещенные тонкие лодыжки, безвольно опущенная рука с голубым незабудковым браслетом на запястье. Волнистые волосы, спутанные речной водой и ветром, спадают до самой талии, точнее, до подоконника.
Катерина никогда не видела эту девушку в таком ракурсе, но ей не понадобилось и секунды, чтобы узнать ее.
Потому что это была она сама.
Глава 2. Купальский костер
то лето
Сад опрокидывался к реке.
Катя сидела на подоконнике и представляла, что, если уронить на бок ковшик с гречкой, то крупа высыплется на стол ровным склоном – точь-в-точь их сбегающий к реке сад. Как будто его тоже кто-то опрокинул. Небо на западе, куда выходило окно небольшой вытянутой комнатки, полыхало красным заревом. Солнце только-только село в пышные кучевые облака, перевалившие через горизонт.
Катя подумала о бабушке Тосе, маминой маме. Это так странно, так непостижимо – на небе загораются первые звезды, в траве перестали стрекотать кузнечики, и на их смену приходят цикады, оконное стекло задребезжало от проехавшего за воротами ПАЗика, а бабушка этого больше никогда не узнает. Никогда больше ее руки не заплетут утром седую косу и не уложат ее на затылке в смешной крендель. Никогда больше она не выйдет на крыльцо, и куры не бросятся к ней с кудахтаньем со всех уголков двора, а Найда, полудворняжка-полуовчарка, не залает, заслышав ее шаги за калиткой. Вчера было сорок дней, как она умерла, а мир продолжает жить как ни в чем не бывало. И она, Катя, продолжает тоже.
Досидеть на поминках было выше ее сил. Собрались бабушкины знакомые, соседи, которые знали ее с детства. Так ведь бывает в маленьких городках: все друг друга знают. И бабушку Тосю тоже знали. И любили. Помянули, выпили не чокаясь несколько раз, но потом разговор все равно перетек в другое русло, и еще раз, и еще, и иногда сидящие за столом забывали, по какому поводу они здесь собрались. Обычно жизни довольно скоро наскучивает скорбеть – для Кати, впервые столкнувшейся с утратой, это стало открытием. Тягостным и неприятным. Она ушла в комнату и с трудом дождалась, когда все разойдутся, чтобы помочь матери убрать со стола под навесом.
А на похороны она вообще не приехала, послушавшись матери, Алены. На тот день была назначена олимпиада по русскому языку, в которой Катя должна была участвовать. Сама она не раздумывая бросила бы все и села на поезд, если бы не Алена.
– Ты должна быть здесь, – непреклонно заявила она. Ее лицо, всегда такое красивое, было в эти дни немного неживым. Но все равно красивым. – Я поеду сама. Все, что ты можешь, это написать свою олимпиаду хорошо. Это сейчас важнее.
Девушка позволила себя убедить. Смалодушничала, боялась увидеть бабушку в гробу. И написала олимпиаду. А через неделю Кате сообщили, что ее берут без экзаменов на филфак.
– Бабушка была бы так счастлива за тебя. Она всегда тебя обожала, и гордилась, – обняла ее мать, встретив на станции.
– А ты?
Так все и сложилось. Пока одноклассники бились над вступительными экзаменами в институты, Катя запоем читала Хэмингуэя и Ремарка – под старой липой, на пляже, на трибунах стадиона – за сотни километров от привычной жизни. И чувствовала себя на другом краю мира. В книгах она искала другие страны, другие ощущения, то, чего никогда не знала и никогда не испытывала, то, в чем хотела спрятаться от осыпающейся реальности. Почему-то, читая о трагедиях чьей-то другой, выдуманной жизни, она сама чувствовала себя чуточку легче.
Дверь комнаты скрипнула, и из кухни на половицы лег желтый прямоугольник света. Это заглянула Алена:
– Иди ужинать.
Катя соскользнула с подоконника и босыми ногами зашлепала к двери по прохладному полу, одновременно собирая длинные волосы в узел. В голове мелькнула мысль, что теперь волосы можно оставить в покое: какая кому разница, ведь это бабушка Тося старомодно не любила, когда кто-то из женщин садился за стол непричесанной. А теперь бабушки нет. Катя упрямо сжала губы и стянула хвост резинкой туго-туго, так, что заболела кожа на голове.
Мать уже сидела за столом и разливала по двум стаканам белый квас из запотевшей трехлитровой банки. Катя примостилась рядом, придвинула к себе миску с окрошкой и тарелку, положила несколько ложек, разбавила простоквашей и принялась хлебать. В душной кухне холодная еда казалась чем-то восхитительным.
– Ты курям насыпала? – пробормотала Алена, не глядя на дочь.
Катя кивнула. Алена поставила перед ней квас и задумалась. Ее аккуратные пальчики с гладкими розоватыми ногтями медленно водили по клеенке, которая покрывала обеденный стол. Клеенку с нарисованными на ней цветочками испещряли старые трещинки и надрезы. Некоторые были едва различимые, из других, длинных, сделанных неосторожным ножом, торчали волокна нижнего слоя, похожие на синтепон. На одной такой царапине пальцы Алены замерли. Катя искоса наблюдала за матерью. Та уставилась в одну точку с совершенно непроницаемым выражением лица. И только покрасневший нос и дрожащая нижняя губа выдавала ее переживания. Кате вдруг захотелось обнять ее, приласкать, прижать к себе, как маленькую. Она ласково погладила материнскую руку.
– Мм? – Алена, нахмурившись, перевела взгляд на дочь. После легкого замешательства вздохнула, потерла переносицу усталым жестом и прикрыла рукой глаза.
– Голова разболелась. Это все жара.
– Ты весь день ничего не ела. Давай – окрошечки, положить? – Катя взяла миску с окрошкой и чистую тарелку.
– Нет, на надо, я не хочу.
– Мам…
– Ты клубнику собрала? Я тебя вчера просила.
Катя с досадой зажмурилась:
– Забыла.
Алена ничего не сказала. Легко встала из-за стола, убрала хлеб в хлебницу, а так и не запачканную тарелку обратно в посудный шкаф. Несмотря на усталость и только что закончившиеся поминки по собственной матери, Алена двигалась пружинно и одновременно плавно, несуетливо. Суета вообще никогда не была ей свойственна. Она не суетилась, даже когда опаздывала – может, поэтому и успевала всегда вовремя.
Перед тем, как убрать банку с квасом в холодильник, Алена налила и жадно выпила еще стакан. Ее кожа на лбу, шее, груди и над верхней губой блестела капельками пота.
– Знаешь, сколько на градуснике? Двадцать девять. А уже десятый час, – словно жалуясь, сообщила она, прикрыв глаза и пальцами пытаясь размять ноющую шею и затылок. – На речке была сегодня?
– Неа. Когда…
– Пойдем. Собирайся. Я тут свихнусь иначе.
Катя с готовностью подскочила. Искупаться сейчас было бы здорово, у нее и самой уже футболка неприятно липла к спине. Обычно Алена ходила на пляж одна, когда ей было удобно. Это Катя могла просиживать на реке по полдня, а Алена обычно окуналась, вытиралась и шла домой. Так что Катя вдвойне обрадовалась ее предложению.
Через сад было короче. Алена первой спускалась через малинник по круто уходящей вниз тропинке. Подол ее тонкого голубого сарафана то и дело зацеплялся за колючки, и тогда она нетерпеливо одергивала его рукой. Ткань как будто светилась в сгущающихся сумерках.
Пообещав еще раз наведаться вечером и позаимствовав тряпки и ведро, Катерина попрощалась с Ольгой. Та все еще хмурилась и всем видом показывала, что именно она думает по поводу Катерининой блажи. В доме, куда она вернулась, Катерина веником смахнула паутину из углов, быстро вымыла пол в двух комнатах и кухне – пришлось несколько раз таскать воду из колонки за воротами. В третью комнату, скрывавшуюся за плотно прикрытой дверью, она так и не зашла, не смогла себя пересилить, будто на невидимую стену наталкивалась. Вынесла на двор весь мусор и тряпье, отодвинула шкаф к стене, и, довольная результатом, зажгла большую красную свечу в стеклянном подсвечнике. Свечу она взяла из дома. С некоторых пор ей верилось, что даже маленький язычок пламени способен отогнать все дурные мысли, поэтому дома свечей она всегда держала множество и зажигала их по вечерам. Эта, ровным пламенем горевшая сейчас на диване рядом с постеленным на пол спальником, была, ко всему прочему, с запахом корицы. Такой теплый, сухой и крепкий аромат. Он обязательно перебьет затхлость, хотя бы в этой комнате, подумала Катерина, оставляя свечу гореть без присмотра. Выйдя за калитку, она прищурилась от бившего в глаза солнца и побрела по поселку, припоминая его устройство.
Последний раз Катерина была тут ровно половину жизни назад, семнадцать лет из прожитых ею тридцати четырех. Но первую половину жизни она гостила тут каждое лето. Сначала у бабушки Тоси с дедой Димой, потом, после смерти деда, у одной бабушки. С тех пор, как выяснилось, Пряслень не слишком изменился. На том же месте районная администрация, выкрашенная в бело-розовый, на той же площади рынок. Однако, большой гастроном на рыночной площади, на крыше которого, как и прежде, сидели сотни голубей, теперь превратился в универсам, как в большом городе: с тележками и раздвижными дверями. Правда, фотоэлемент уже не работал, и, чтобы войти, пришлось сперва потоптаться, ожидая от техники реакции, и только потом рассмотреть обычную дверь рядом. В гастрономе Катерина купила продуктов и воды и спросила кассиршу, где можно приобрести дверной замок. Продавщица смерила ее непонимающим взглядом:
– В хозтоварах.
– А хозтовары… где?
– У Юркова, – и, сообразив, что Катерине это ничего не сказало, добавила:
– А, через дорогу, за цветочным. Только сейчас там уже все закрыто, они до четырех.
Ну да, точно. Здешние магазины закрываются рано, это не большой город, где можно и в полночь ходить за покупками. Рынок с самого утра до полудня. Хозтовары вот до четырех. Чудо, что этот супермаркет все еще открыт. Что ж, придется подождать до утра, а пока ночевать без замка.
Упаковывая продукты в пакет, Катерина поймала полный любопытства взгляд кассирши. Не желая давать ей времени на припоминание своего лица, Катерина сгребла покупки и быстро вышла.
От приближающейся ночи веяло холодком. Здесь, на юге, еще почти не чувствовалось, что наступил сентябрь. Все такие же зеленые деревья и яркие цветы на клумбах и в палисадниках. Но с наступлением вечера жара начинала быстро спадать, не то, что в июле, когда и под утро не отступает липкий зной.
Дойдя до дома, Катерина юркнула в дырку забора уже безо всякого трепета. Утренние переживания при свете догорающего дня казались ей едва ли не забавными. Жизнь вообще имеет обыкновение быстро перекрывать старые чувства новыми, – подумала она про себя. – Жизнь нельзя сдержать. К счастью для всех нас.
Свеча за ее отсутствие сгорела меньше чем на треть, распространив по комнате свой коричневый аромат. Катерина распахнула окно, рискуя напустить комаров, устроилась на спальнике и с аппетитом перекусила принесенным сыром с хлебом, глядя, как солнце уходит за горизонт. Она всегда любила ночь больше, чем день, и с самого детства обожала сидеть на подоконнике этой комнаты, глядя сквозь ветки вишни на закат за рекой.
Погода была совершенно безветренная, и уже начинали таинственно трещать ночные цикады. Ни с того ни с сего свеча вдруг стала чадить и искрить, будто в нее брызнули жиром. Пришлось даже наклонить ее, чтобы распределить парафин, но пламя все равно не выравнивалось. Катерина решила погасить ее – она как раз подумывала над тем, что пора наведаться к Оле до наступления темноты, чтобы потом не бродить в потемках. Надо поблагодарить добрую женщину за гостеприимство и еще раз уверить, что она прекрасно устроилась и здесь. Задув огонь, Катерина бросила взгляд на окно и оцепенела.
В комнате она была не одна.
На подоконнике, забравшись с ногами и поставив подбородок на колени, сидела девушка и смотрела на закат. Ее лица видно не было, но весь силуэт вырисовывался на фоне светлого розовато-синеющего неба графически четко. Узкие, чуть поджатые плечи, скрещенные тонкие лодыжки, безвольно опущенная рука с голубым незабудковым браслетом на запястье. Волнистые волосы, спутанные речной водой и ветром, спадают до самой талии, точнее, до подоконника.
Катерина никогда не видела эту девушку в таком ракурсе, но ей не понадобилось и секунды, чтобы узнать ее.
Потому что это была она сама.
Глава 2. Купальский костер
то лето
Сад опрокидывался к реке.
Катя сидела на подоконнике и представляла, что, если уронить на бок ковшик с гречкой, то крупа высыплется на стол ровным склоном – точь-в-точь их сбегающий к реке сад. Как будто его тоже кто-то опрокинул. Небо на западе, куда выходило окно небольшой вытянутой комнатки, полыхало красным заревом. Солнце только-только село в пышные кучевые облака, перевалившие через горизонт.
Катя подумала о бабушке Тосе, маминой маме. Это так странно, так непостижимо – на небе загораются первые звезды, в траве перестали стрекотать кузнечики, и на их смену приходят цикады, оконное стекло задребезжало от проехавшего за воротами ПАЗика, а бабушка этого больше никогда не узнает. Никогда больше ее руки не заплетут утром седую косу и не уложат ее на затылке в смешной крендель. Никогда больше она не выйдет на крыльцо, и куры не бросятся к ней с кудахтаньем со всех уголков двора, а Найда, полудворняжка-полуовчарка, не залает, заслышав ее шаги за калиткой. Вчера было сорок дней, как она умерла, а мир продолжает жить как ни в чем не бывало. И она, Катя, продолжает тоже.
Досидеть на поминках было выше ее сил. Собрались бабушкины знакомые, соседи, которые знали ее с детства. Так ведь бывает в маленьких городках: все друг друга знают. И бабушку Тосю тоже знали. И любили. Помянули, выпили не чокаясь несколько раз, но потом разговор все равно перетек в другое русло, и еще раз, и еще, и иногда сидящие за столом забывали, по какому поводу они здесь собрались. Обычно жизни довольно скоро наскучивает скорбеть – для Кати, впервые столкнувшейся с утратой, это стало открытием. Тягостным и неприятным. Она ушла в комнату и с трудом дождалась, когда все разойдутся, чтобы помочь матери убрать со стола под навесом.
А на похороны она вообще не приехала, послушавшись матери, Алены. На тот день была назначена олимпиада по русскому языку, в которой Катя должна была участвовать. Сама она не раздумывая бросила бы все и села на поезд, если бы не Алена.
– Ты должна быть здесь, – непреклонно заявила она. Ее лицо, всегда такое красивое, было в эти дни немного неживым. Но все равно красивым. – Я поеду сама. Все, что ты можешь, это написать свою олимпиаду хорошо. Это сейчас важнее.
Девушка позволила себя убедить. Смалодушничала, боялась увидеть бабушку в гробу. И написала олимпиаду. А через неделю Кате сообщили, что ее берут без экзаменов на филфак.
– Бабушка была бы так счастлива за тебя. Она всегда тебя обожала, и гордилась, – обняла ее мать, встретив на станции.
– А ты?
Так все и сложилось. Пока одноклассники бились над вступительными экзаменами в институты, Катя запоем читала Хэмингуэя и Ремарка – под старой липой, на пляже, на трибунах стадиона – за сотни километров от привычной жизни. И чувствовала себя на другом краю мира. В книгах она искала другие страны, другие ощущения, то, чего никогда не знала и никогда не испытывала, то, в чем хотела спрятаться от осыпающейся реальности. Почему-то, читая о трагедиях чьей-то другой, выдуманной жизни, она сама чувствовала себя чуточку легче.
Дверь комнаты скрипнула, и из кухни на половицы лег желтый прямоугольник света. Это заглянула Алена:
– Иди ужинать.
Катя соскользнула с подоконника и босыми ногами зашлепала к двери по прохладному полу, одновременно собирая длинные волосы в узел. В голове мелькнула мысль, что теперь волосы можно оставить в покое: какая кому разница, ведь это бабушка Тося старомодно не любила, когда кто-то из женщин садился за стол непричесанной. А теперь бабушки нет. Катя упрямо сжала губы и стянула хвост резинкой туго-туго, так, что заболела кожа на голове.
Мать уже сидела за столом и разливала по двум стаканам белый квас из запотевшей трехлитровой банки. Катя примостилась рядом, придвинула к себе миску с окрошкой и тарелку, положила несколько ложек, разбавила простоквашей и принялась хлебать. В душной кухне холодная еда казалась чем-то восхитительным.
– Ты курям насыпала? – пробормотала Алена, не глядя на дочь.
Катя кивнула. Алена поставила перед ней квас и задумалась. Ее аккуратные пальчики с гладкими розоватыми ногтями медленно водили по клеенке, которая покрывала обеденный стол. Клеенку с нарисованными на ней цветочками испещряли старые трещинки и надрезы. Некоторые были едва различимые, из других, длинных, сделанных неосторожным ножом, торчали волокна нижнего слоя, похожие на синтепон. На одной такой царапине пальцы Алены замерли. Катя искоса наблюдала за матерью. Та уставилась в одну точку с совершенно непроницаемым выражением лица. И только покрасневший нос и дрожащая нижняя губа выдавала ее переживания. Кате вдруг захотелось обнять ее, приласкать, прижать к себе, как маленькую. Она ласково погладила материнскую руку.
– Мм? – Алена, нахмурившись, перевела взгляд на дочь. После легкого замешательства вздохнула, потерла переносицу усталым жестом и прикрыла рукой глаза.
– Голова разболелась. Это все жара.
– Ты весь день ничего не ела. Давай – окрошечки, положить? – Катя взяла миску с окрошкой и чистую тарелку.
– Нет, на надо, я не хочу.
– Мам…
– Ты клубнику собрала? Я тебя вчера просила.
Катя с досадой зажмурилась:
– Забыла.
Алена ничего не сказала. Легко встала из-за стола, убрала хлеб в хлебницу, а так и не запачканную тарелку обратно в посудный шкаф. Несмотря на усталость и только что закончившиеся поминки по собственной матери, Алена двигалась пружинно и одновременно плавно, несуетливо. Суета вообще никогда не была ей свойственна. Она не суетилась, даже когда опаздывала – может, поэтому и успевала всегда вовремя.
Перед тем, как убрать банку с квасом в холодильник, Алена налила и жадно выпила еще стакан. Ее кожа на лбу, шее, груди и над верхней губой блестела капельками пота.
– Знаешь, сколько на градуснике? Двадцать девять. А уже десятый час, – словно жалуясь, сообщила она, прикрыв глаза и пальцами пытаясь размять ноющую шею и затылок. – На речке была сегодня?
– Неа. Когда…
– Пойдем. Собирайся. Я тут свихнусь иначе.
Катя с готовностью подскочила. Искупаться сейчас было бы здорово, у нее и самой уже футболка неприятно липла к спине. Обычно Алена ходила на пляж одна, когда ей было удобно. Это Катя могла просиживать на реке по полдня, а Алена обычно окуналась, вытиралась и шла домой. Так что Катя вдвойне обрадовалась ее предложению.
Через сад было короче. Алена первой спускалась через малинник по круто уходящей вниз тропинке. Подол ее тонкого голубого сарафана то и дело зацеплялся за колючки, и тогда она нетерпеливо одергивала его рукой. Ткань как будто светилась в сгущающихся сумерках.