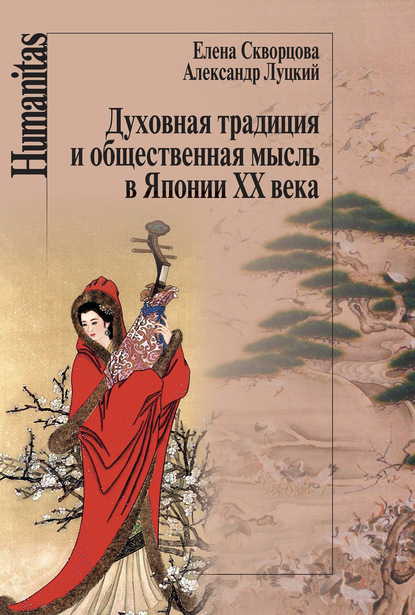По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако язык не единственный определяющий фактор в развитии мышления или этических представлений. Более того, происходящее с необходимостью развитие мышления приводит к ломке языковых стереотипов. Сегодня японцы вынуждены изменять традиционную структуру своего языка, а опыт XX столетия демонстрирует успехи Японии в разработке новейших отраслей науки, что было бы невозможно без соблюдения законов логики.
Интересны взгляды ещё одного из приверженцев японского «типа мышления», видного теоретика и популяризатора японского буддизма Судзуки Дайсэцу. По его мнению, специфической чертой «типа мышления» и поведения японцев, японской морали является интуитивное постижение бытия, буддийское по своему характеру. «Буддийская философия, – пишет он, – это система саморазвёртывающейся и самодифференцирующейся праджня (интуиции)».[89 - Suzuki D. T. Zen and Japanese Culture. Princeton. 1971. P. 84.] Она определяет особую «буддийскую моральность» японского народа. Праджня обладает не только гносеологической, но и онтологической характеристикой. Будучи единосущной с Абсолютом, лежащим в основе мира, праджня выступает высшим родом познания, преодолевающим дихотомию субъект – объект. Именно факт невозможности разделения единой реальности на субъект и объект без привлечения понятия Абсолюта Судзуки считает аргументом в пользу сверхразумности праджня, «трансцендентной всем видам суждения».[90 - Ibid. P. 73.]
Знаки японской иероглифической письменности, неудобные для передачи дискурсивного мышления, буддийский философ оценивает как удобный инструмент для праджня, поскольку каждый иероглиф «пробуждает конкретные представления, полные недифференцированных импликаций, и является наиболее совершенной формой выражения интуитивно-образного типа мышления».[91 - Ibid. P. 77.] Судзуки считает, что буддистов всего мира объединяют особенные мораль (совпадающая с мировым Законом) и «интуитивно-образный тип мышления». В связи с этим уместно вспомнить слова Гегеля, писавшего что «конкретное заимствуется из обычного представления, которое не может содержать в себе логических принципов, работающих именно в теоретическом познании и отнюдь не лежащих в основе интуитивного мышления».[92 - Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии // Гегель Г. В. Ф. Собрание сочинений: В 14 т. М.; Л. 1929–1958. Т. 9. Л., 1932. С. 112.] Логические принципы используются мыслящим субъектом сознательно, а не интуитивно. Логическое мышление подразумевает усилие, постоянное внимание к соблюдению логических законов; оно вскрывает противоречивость образного восприятия действительности, его непоследовательность и ограниченность путём анализа внутренней связи явлений. Ориентируясь лишь на интуитивные критерии, мышление утрачивает свой действительный объект познания, заменяет его неким Абсолютом и становится субъективным, иллюзорным по характеру.
Значение, придававшееся японцами-буддистами интуитивному познанию, которое противопоставлялось дискурсивному мышлению (как «неистинному», неспособному постичь буддийское единство мира, разлагающему всё на части и расчленяющему субъект-объектное единство буддийского бытия на «мёртвые» противоположности) вполне объяснимо. Японский язык с его иероглификой, естественно, препятствовал возникновению системы формальной логики и даже её усвоению японскими мыслителями, являлся тормозом для распространения абстрактного мышления в Японии, общественное сознание которой веками находилось в русле влияния буддийской традиции. Это наложило отпечаток и на моральные представления японцев.
Интуитивное познание, а точнее своеобразный «нравственный инстинкт», интуитивное воспроизведение индивидами моральных норм – неотъемлемое и необходимое качество всякого общественного нравственного сознания. Этим, в частности, мораль как особая форма общественного сознания отличается, скажем, от науки или даже философии. «Сама мораль есть синтез… чувственного и рационального, конкретного и абстрактного. Это такое чувственное, где есть своя логика, не менее «железная», чем формальная. Это такое рациональное, которое само оперирует эмоционально-волевыми ансамблями. Интуиция здесь выступает в единстве чувственного и рационального моментов, как способ ускоренной, непосредственной ориентации в мире социальных ценностей».[93 - Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания. М., 1974. С. 242–243.] В этом плане следует признать, что претензии японских исследователей, подчёркивающих достоинства моральных установок японского народа, не лишены оснований: «нравственный инстинкт» японцев на самом деле необыкновенно силён, впечатляет их способность угадать и прочувствовать тонкости самой деликатной ситуации. Это качество может составить гордость японской нации, её действительно характеристическую черту в мировом сообществе. Но отсюда совсем не следует, что японцы обладают каким-то особым моральным «типом мышления», неизменно сохранявшимся во все времена. В ходе становления и развития капитализма в Японии там вступили в силу и общие закономерности моральной регуляции. Поэтому японская общественная мораль, несмотря на попытки националистически настроенных идеологов представить её вечной, неизменной, одинаковой для всех японцев и независимой от социальных условий, претерпела и продолжает претерпевать значительные изменения.
* * *
При встрече Японии с западной цивилизацией в XIX в. возникла ситуация, которая явилась как бы новым вариантом событий двенадцативековой давности, ознаменовавшихся контактами с Китаем. Тогда, в VII в., Япония, пережив в зачаточном виде рабовладение, познакомилась с китайским образцом феодальной организации общества и успешно заимствовала его. Теперь, следуя примеру государств Запада, Страна Восходящего солнца за столетие совершила резкий скачок и стала передовой капиталистической державой, практически миновав домонополистическую стадию. Установки индивидуального сознания японцев в период утверждения капиталистических отношений не успели в силу краткости этого периода перестроиться полностью на капиталистический лад. Для идеологов же новой Японии «сословно-статусная мораль феодального общества оказалась счастливой находкой. Моральное освящение отношений покровительства, патернализм, корпоративность, иерархичность, ритуализм поведения – все эти особенности феодальной морали можно было эффективно использовать для оправдания и закрепления господства монополий и трестов в условиях своеобразного империалистического неофеодализма».[94 - Там же. С. 75.]
Наиболее ярко это проявилось в период Второй мировой войны. Милитаристские круги Японии широко использовали моральный код системы обязанностей для разжигания у масс чувства фанатизма во исполнение решения императора сражаться до последнего человека. На щит был поднят моральный кодекс самурайства бусидо, жертвами следования которому стали тысячи японцев.
Авторы послевоенных концепций японской морали отказались от наиболее агрессивных националистических лозунгов «нравственного гегемонизма». Однако в последнее время они всё чаще начинают звучать в работах современных исследователей, стремящихся интерпретировать и использовать традиционные нравственные представления японцев.[95 - См. указанные сочинения Коямы Ивао, Мисимы Юкио, Дои Такэо, а также: Idemitsu S. Dotoku of Japan Differs Fundamentally from Western Moral. Tokyo, 1973.] Причем эти исследователи сознательно смешивают понятия японской общественной официальной морали и нравственные представления японского народа, выдавая их за нечто единое. Прикрываясь целью «духовно объединить» нацию, «встать выше» общественных противоречий, эти идеологи играют на патриотических чувствах японцев, чтобы таким образом способствовать обеспечению стабильности государственной системы и активизации борьбы Японии со своими конкурентами на мировой арене. Однако именно нравственная культура японского народа, ратующая за человечность отношений, взаимное уважение, ненасилие, равенство людей, за их единство в решении общих задач, по сути дела противостоит национализму, на почве которого произрастают идеи шовинизма, милитаризма и гегемонизма. Неслучайно прогрессивные представители японской философской мысли ведут непрекращающуюся борьбу с националистической идеологией, подвергая обоснованной научной критике её мировоззренческие (и этические в том числе) концепции.[96 - См.: Янагида Кэндзюро. Философия свободы. М., 1958. С. 189–193; Уэда Кодзи, Фува Тоса. Марукусусюги то гэндай идеороги (Марксизм и современная идеология). Токио, 1964; Сакаки Тосимицу. Марукусусюги то дзицудзонсюги (Марксизм и экзистенциализм). Токио, 1968; Мори Кошпи. Юйбуцурон-но сисо то тосо (Идеология и борьба материализма). Токио, 1971; Кодзаи Ёсисигэ. Современная философия. Заметки о «духе Ямато». М., 1974.]
«Христианский век» в Японии. К проблеме взаимодействия национальных культур
Будь ты и впрямь европейцем, а я китайцем, говори мы на разных языках, мы и тогда, при наличии доброй воли, могли бы очень многое поведать друг другу и сверх того, очень многое угадав, и почувствовать.
Герман Гессе
Проблема взаимоотношения Востока и Запада с их традиционно противопоставляемыми культурами давно привлекает внимание российских и зарубежных учёных.[97 - См., напр., работы Н. И. Конрада, Е. В. Завадской, Т. П. Григорьевой, Дж. Сэнсома, Д. Кина и др.] Однако при этом исследуется, как правило, влияние Востока на западную культуру. Нас же, напротив, интересует проблема западного влияния на восточную, в частности на японскую, культуру.
Исследовать воздействие одной культуры на другую довольно затруднительно ввиду необходимости учитывать множество переплетающихся тенденций и факторов, возникающих в процессе взаимоотношений между народами на протяжении истории. Большинство национальных культур давно оказались включёнными в единое мировое культурное сообщество – человеческую цивилизацию. Феномен Японии, долгое время находившейся в изоляции от внешнего мира (вначале – исторически сложившейся, обусловленной островным положением страны, а впоследствии – искусственно созданной правящей феодальной верхушкой с целью сохранения своего политического и духовного господства), кажется нам в этом контексте особенно ценным. Основные контакты японцев с представителями других цивилизаций фиксированы во времени, что делает Японию уникальным объектом для изучения процессов проникновения инородного материала в культуру самостоятельно развивающегося народа. Крайне интересны в этом плане контакты японцев именно с европейцами, с их культурой, значительно отличающейся от восточной культуры соседних народов. Не претендуя на полноту выводов, мы попытаемся рассмотреть некоторые последствия первого, почти столетнего периода (так называемого христианского века) общения японцев с посланцами западного мира в лице сначала португальских миссионеров и торговцев, а затем их коллег из Испании, Англии и Голландии.
Внешние связи Японии до 1542 г. ограничивались контактами с Китаем и Кореей. Более развитый Китай на протяжении нескольких веков выступал в качестве недосягаемого образца культуры, идеала совершенства, к которому следовало стремиться. А всё китайское, начиная с государственной структуры и мировоззрения и кончая планировкой крупных городов и образцами стихосложения, являлось предметом подражания. Знакомство с достижениями китайской цивилизации стимулировало творческую активность и самих японцев, заставляло их пристальнее взглянуть на собственные национальные проблемы. Это привело к возникновению высокой самобытной культуры, ярко проявившей себя в эпоху Хэйан в выдающихся творениях искусства и литературы. Однако для укрепления этнического самосознания, более чёткого определения своего места в мире, невозможного без соотнесения себя с другими народами, для изменения масштаба видения мира японцы нуждались во всё новой информации о Земле, о народах, населяющих другие страны, нуждались в постоянном расширении торгово-экономических и культурных связей с этими народами.
В 40-е годы XVI в. после установления первых контактов с европейцами в Японии наступил так называемый «христианский век». Это время может служить прекрасной иллюстрацией процесса соприкосновения и взаимодействия до сих пор независимо развивающихся народов. Особенно интересна реакция японцев, которые поскольку опять, как в своё время в отношении Китая, стали преемниками достижений иной цивилизации. Конечно, и европейцы многое почерпнули у японцев. Но после первого знакомства с Японией западный взгляд на мир в целом остался прежним – были только внесены уточнения в географические карты и описан ещё один народ. Сознание же японцев претерпело довольно основательные изменения: «В результате общения с европейцами японцы узнали, что кроме государства Кара (Китай) и Тэндзику (Индия), которыми до этого в их представлении и ограничивался мир, существуют цивилизованные страны Запада. Так впервые перед их взором предстала наша Земля. И Нобунага, и Хидэёси, и Иэясу[98 - Верховные правители феодальной Японии.] благодаря глобусу и картам мира узнали, какое положение на земном шаре занимает Япония. И здесь необходимо отметить, что взгляд японцев на вселенную с этого времени полностью изменился».[99 - Иэнага Сабуро. История японской культуры. М., 1972. С. 139.]
Благодаря торговым операциям состоялось знакомство японцев с материальной культурой Запада, ремеслом, естественнонаучными представлениями и т. п. Японское население восприняло всё это с точки зрения полезности и постаралось усвоить.[100 - Особенно сильно влияние европейцев сказалось на развитии астрономии, географии, судостроения, шахтного дела и металлургии.] Европейцы, со своей стороны, помимо чисто экономических стремились добиться и определённых религиозно-политических целей, прежде всего – «христианизации» японцев, вовлечения их в сферу своего духовного влияния. И весьма успешно, доказательством чего служит распространение христианства в Японии в кон. XVI – первой пол. XVII вв. Китайские духовные стереотипы, достаточно прочно укоренившиеся в сознании японцев за долгие годы, не смогли помешать восприятию и усвоению христианских догм.
Первые европейцы попали в Японию случайно.[101 - Правда, европейцы уже давно стремились к «прекрасной стране Зипангу», как называл Японию побывавший ещё в XIII в. в Китае и почерпнувший там сведения о ней знаменитый венецианский путешественник Марко Поло. По лучшим в мире (для того времени) картам португальцы точно знали географическое положение Японии, и посещение этой страны, вероятнее всего, входило в их ближайшие планы.] До этого они появились сначала в Китае: в августе 1517 г. корабль португальского купца Фернандо Переса д’Андраде, прибыл в Кантон из Малакки. Невиданное доселе судно и необычные товары вызвали живой интерес у местных жителей, и в первую очередь у китайских купцов. Власти же сначала смотрели сквозь пальцы на бурную деятельность, которую вскоре развернули здесь португальцы, не запрещая, но и не поощряя её. Однако столь мягкое, нейтральное отношение китайских правителей к «южным варварам»[102 - Окружавшие их народы китайцы считали варварами и различали их лишь по тому, в направлении какой части света от Китая (Срединной страны) они обитали. Соответственно, их обозначали «северными», «западными» и т. п. «варварами». Поскольку первые португальцы попали в Китай со стороны южных морей, они стали именоваться «южными варварами». Отсюда же и их японское название – намбан, т. е. «южные варвары».] продолжалось недолго и было прервано по вине последних.
Первый официальный запрет на торговлю с португальцами последовал уже в 1519 г. Поводом для него послужило недостойное поведение Симао д’Андраде, младшего брата упомянутого выше Фернандо (дебоши, кражи китайских детей с целью продажи в рабство). Китайские власти сочли, что Симао и ему подобные злоупотребляют их благосклонностью и терпением. Тем не менее экономические выгоды китайского купечества, заинтересованного в сотрудничестве с европейцами в морских перевозках (португальские корабли были значительно большего водоизмещения и надёжнее в длительном плавании), оказались выше соображений морали и, несмотря на запреты, торговля продолжалась на неофициальном уровне.
В 1542 г. один из португальских кораблей принесло штормом к японским берегам. А уже в 1543 г. португальцы организовали экспедицию в Японию и их суда бросили якорь у острова Танэгасима.
Япония второй половины XVI в. представляла собой феодальное государство, состоящее из разрозненных удельных княжеств, управляемых крупными феодалами – даймё. Все они стремились к максимальной автономии, но автономию могло обеспечить только могущество, подкреплённое богатством. Одним же из важнейших источников богатства была торговля. Поэтому заинтересованные в торговле с португальцами западные даймё охотно допустили их в свои владения.
В августе 1549 г. в Японию прибыл миссионер-католик, член ордена иезуитов Франциск Ксавье и семь его сподвижников (в том числе трое японцев – выпускников иезуитского колледжа св. Павла в Гоа). Они высадились в г. Кагосима, столице княжества Сацума и, не теряя времени, приступили к проповедям, а затем и крещению местного населения. Дело продвигалось весьма успешно. Ксавье так характеризовал японцев: «Эти – лучший народ, обнаруженный столь далеко, и кажется мне, что среди неверующих нельзя найти народа, превосходящего их».[103 - Цит. по: Sansom G. B. A History of Japan. Vol. 2: 1334–1615. Stanford: Stanford Univ. Press, 1961. P. 115.] Глава иезуитов познакомился с сацумским даймё Симадзу Такахиса и снискал его расположение своими прекрасными манерами и образованностью. Выяснив, однако, что Такахиса не является правителем всей Японии, Ксавье после десятимесячной деятельности отправился в столицу к самому императору в надежде открыть ему истины христианства и убедить в необходимости крещения всего японского народа. Но к императору он не был допущен, и визит не состоялся.
Всё же Ксавье удалось завязать новые знакомства в столице. Он добился расположения ещё нескольких даймё и увлёк их перспективами дальнейшего экономического сотрудничества с Западом. Как и сацумский правитель Такахиса, эти даймё согласились допустить иезуитов в свои владения. Кроме того, Ксавье имел в столице несколько теологических бесед с монахами буддийской школы Сингон. Несмотря на то, что обе стороны отметили сходство исповедуемых ими религий, Ксавье пришёл к убеждению, что даже в этой, наиболее близкой по духу христианству школе «сатана прочно укоренился».[104 - Ibid. P. 119–120.] (Основателя школы Сингон – крупного японского мыслителя Кукая (774–835), чьи творчество и деятельность во многом определили стиль духовной жизни Японии хэйанского периода, португальцы стали считать одним из воплощений сатаны.) Поэтому иезуиты упорно развивали свою миссионерскую деятельность ради христианского «спасения» народа Японии. Здесь даже начали возводиться католические церкви, где тысячи вновь обращённых христиан могли беспрепятственно слушать проповеди и молиться.
Первый из великой тройки объединителей Японии сёгун (военачальник) Ода Нобунага (1534–1582), положивший начало укреплению единой централизованной власти, признал христианство и благоволил к иезуитам. Он даже заинтересовался созданием католической семинарии и выделил соответствующее место для неё. Произошло это, вероятно, по двум причинам. Во-первых, привлекали экономические выгоды сотрудничества с заморскими гостями. А во-вторых, нужен был противовес росту духовного и политического влияния буддизма.[105 - Стремясь к единовластию во всех сферах жизнедеятельности государства, Ода вёл ожесточённую борьбу с экономически сильными и идеологически независимыми буддийскими монастырями.] Такое высокое покровительство христианству способствовало его дальнейшему распространению христианства не только на западе страны, но и в центральных провинциях. Креститься стало модным.
Письма отцов-иезуитов того времени свидетельствуют о стремительном росте числа японских христиан-неофитов. Так, о. Вилем писал, что количество христиан в Японии, главным образом в западных провинциях, в 1571 г. составляло 30 тыс. человек. Миссионер о. Органтино писал тогда же, что за шесть месяцев он крестил около семи тыс. человек. О. Фруа сообщал о наличии только в одном из районов столицы пяти тысяч христиан. К началу 80-х гг. XVI в. в Японии насчитывалось уже 130 тыс. последователей Христа; по данным о. Валиньяно (1582) – 150 тыс., двести церковных храмов и две семинарии. В провинциях Бунсо, Арима и Тоса сами правители были христианами. И это спустя всего лишь 30 лет с момента прибытия в страну проповедников, количество которых в первые десять лет не превышало дюжины! Даже если мы сделаем скидку на преувеличение иезуитами плодов своего миссионерского рвения и сократим цифры вдвое, всё равно картина получается впечатляющая. «Если ранее ввезённый из Китая буддизм насаждался сверху, ибо это соответствовало субъективным запросам господствующего класса Японии, и распространялся почти безотносительно к китайским религиозным организациям как таковым, – пишет историк японской культуры Иэнага Сабуро, – то христианское учение, успешно проповедовавшееся миссионерами из европейских католических орденов, сразу же было обращено к массам и за короткое время привлекло на свою сторону многочисленных последователей».[106 - Иэнага Сабуро. История японской культуры. С. 140.]
Захвативший власть в 1582 г. Тоётоми Хидэёси (1536–1598) также поощрял иезуитов. Некоторые его приближённые являлись христианами и занимали высокие ступени в иезуитской иерархии. Таков был, например, советник Кониси Рюса, назвавший своего сына Августином и отдавший его на воспитание иезуитам; а также советник Такаяма Нагафуса, который во времена последовавших гонений на христиан спасал верующих. Тоётоми не раз благосклонно принимал у себя иезуитов высокого ранга. Так, побеседовав с о. Органтино в 1583 г., он пожертвовал в пользу церкви участок земли в г. Осака, где собирался основать новую столицу страны. В 1586 г. состоялась его встреча с большой группой иезуитов. Тоётоми хвалил их деятельность и делился своими планами захвата Кореи и Китая с последующим насаждением там христианства. Интересно, что на нескольких знамёнах этого сёгуна красовался христианский крест. Как и его предшественник, Тоётоми продолжал борьбу с буддийскими монастырями и разрушил некоторые из них. Успешно проведя летом 1587 г. кампанию по подавлению мятежных феодалов центральной Японии, Хидэёси пожаловал там иезуитам земельные участки для строительства церквей.
На фоне столь доброжелательного отношения к христианам тем более неожиданным явился эдикт Тоётоми Хидэёси от 25 июля 1587 г., запрещающий миссионерскую деятельность в стране и обязывающий всех иезуитов покинуть Японию в двадцатидневный срок. Непосредственные причины появления данного эдикта нам не известны. Можно лишь предполагать, что он был издан из-за возникшей обеспокоенности японского правителя слишком уж быстрым ростом влияния христианских проповедников, объединявших верующих вокруг себя в духовные союзы, которые со временем могли бы стать угрозой центральной власти.
Иезуиты вынуждены были прекратить крещение населения и проповеди. Но благодаря всё ещё достаточно либеральному отношению Тоётоми, готовому терпеть западных христиан у себя дома во имя выгод торговли, некоторые из них продолжали жить даже в столице. Постепенно миссионерская деятельность возобновилась, и к 1592 г. появилось ещё 52 тыс. новообращённых.
Такое положение длилось до 1593 г. и было нарушено вторжением в Японию испанских францисканцев. Прибыв с Филиппин, они, невзирая на указ 1587 г., открыто стали проводить массовое крещение населения и самовольно строить церкви. Обеспокоенный Тоётоми попытался было с ними договориться. Он послал представителей к испанскому губернатору Манилы и сам принял испанских эмиссаров. Однако грубость испанцев, безусловная уверенность в собственных «благих» целях, оправдывающих любые средства, отнюдь не способствовали налаживанию добросердечных отношений. Францисканцы демонстративно продолжали свою деятельность, ведя при этом разговоры о грядущем испанском владычестве над Японией. Это было слишком даже для Тоётоми Хидэёси.
В 1597 г. последовал новый, гораздо более строгий эдикт против христиан. Настал час их жестоких гонений. В феврале 1597 г. была арестована, а затем распята на крестах целая группа францисканцев, в том числе и вновь обращённые японцы. Забегая вперёд, отметим, что в последующие годы число казнённых христиан составляло от двух до восьми человек в год (кроме 1605 г., когда был уничтожен целый семейный клан Ямагути – 102 человека) и достигло к 1612 г. 132 человек. Все они были японцами.[107 - См.: Sansom G. B. A History of Japan. Р.172.]
Преемник Тоётоми Хидэёси, сёгун Токугава Иэясу (1542–1616), опять же ради выгод торговли, решил восстановить дружеские отношения с европейцами и разрешил им миссионерскую деятельность. Он обратился к губернатору Филиппин, предлагая сотрудничество и давая понять, что не будет строг в отношении христиан. Но вскоре Токугава (а позже и его наследники), как и Тоётоми, видимо, осознал, что распространение христианства, на первый взгляд безобидного, влечёт за собой эрозию религиозно-нравственных представлений синтоизма, конфуцианства и буддизма, на которых зиждилось социальное и духовное единство управляемого им народа.
С 1614 по 1639 гг. последовала серия эдиктов, показывающих, что сёгунское правительство – бакуфу пошло на ослабление своих позиций в экономике ради пресечения «идеологической» опасности. Торговые отношения с Западом, ставшие к тому времени прерогативой бакуфу, были почти полностью прекращены, а все иностранцы выдворены из страны, за исключением небольшой колонии голландцев-протестантов на о-ве Дэсима.
Преследования же собственных христиан возобновились с ещё большей силой и достигли пика в 1625 г.[108 - По свидетельству миссионеров, к 1614 г. в Японии было 653 тыс. взрослых христиан, не считая детей. Всего их было 750 тыс. человек. Вероятно, можно с осторожностью говорить о реальной цифре в 300–400 тыс верующих, тоже достаточно впечатляющей.] В 1638 г. было жестоко подавлено 37-тысячное восстание на п-ове Симабара, руководимое христианами. Христианство искоренялось огнём и мечом. Казни продолжались до 1660 г., так или иначе подверглись наказанию 200 тыс. человек. Около ста тысяч продолжали исповедовать христианство тайно, их приютами стали небольшие острова Японского архипелага.
Надо сказать, японские адепты Христа стойко вынесли всю тяжесть обрушившихся на них репрессий и на протяжении более чем 220-летнего периода закрытия страны, передавая из поколения в поколение христианские заветы, смогли сохранить свою веру.[109 - Сразу же после открытия страны в середине XIX в. христиане объявились на юго-западе Японии. За двести лет тайного вероисповедания их литургика изменилась до неузнаваемости. Японские христиане, так сказать, японизировали католические обряды, придав им национальный колорит. Следовательно, христианские идеи нашли в душах некоторых японцев горячий отклик и глубоко проникли в их сознание.] В связи с этим важно было бы отметить разницу в отношении к европейцам, их культуре, существовавшую между Китаем и Японией как в сфере официальной политики, так и в сознании простого народа. Деловая активность японцев и их очевидный интерес к христианству являют собой контраст равнодушию к европейцам со стороны Китая, где к началу XVIII в. было «христианизировано» лишь 100 тыс. человек – мизерная цифра для такой огромной страны.
Представляется, что заинтересованность японцев была обусловлена особенностью их культурного развития: здесь был очень высок, по крайней мере до X в., авторитет иностранной, прежде всего китайской, традиции. Японцы в течение нескольких веков выступали в роли рецепторов чужеземной (пусть и близкой им по духу) культуры. Вряд ли они восприняли западные образцы как нечто более высокое, по сравнению с их собственной цивилизацией, но их любопытство и любознательность были велики. В то время как китайцы в течение долгого времени находились в привилегированном положении по отношению к соседним народам[110 - Китай с глубокой древности был одним из центров мировой цивилизации и значительно опережал вплоть до XIX в. в своём экономическом и культурном развитии многие соседние страны.] и смотрели на прибывших европейцев свысока, японцам их более скромное положение помогло правильнее оценить пришельцев: к ним отнеслись не как к чему-то «высшему» или «низшему», а как к просто иному.
Разрыв с христианским миром принес сёгунату и крупнейшим даймё – Симадзу Мацуура, Набэсима и Омура – немалые убытки. Прекратилась практикуемая ими с начала XVII в. выдача лицензий судовладельцам на торговлю с заграницей. Замерла деятельность японских торговых поселений, рассеянных по всей Юго-Восточной Азии. Пустынны стали окружающие Японию морские пространства. Их уже не бороздили европейские суда, перевозившие прежде товары японского экспорта и импорта. В самой Японии особенно большие убытки понёс порт Нагасаки, так как все его жители прямо или косвенно были связаны с внешней торговлей, что обеспечивало им более высокий, чем в других областях страны, уровень жизни. Все торговые отношения Японии с западным миром свелись к курсированию единственного корабля из колонии на о-ве Дэсима, делающего только один рейс в год. Несомненно, и европейцы многое утратили с закрытием для них Японии. И не только материальных выгод – они лишились общения с доброжелательным и самобытным народом, оставившим у многих из них самое благоприятное впечатление.
Среди историков существует мнение, что алчные, ограниченные, не очень образованные европейцы, преследовавшие в Азии свои цели, не считавшиеся с интересами местного населения и не интересовавшиеся оригинальной культурой, не могли дать японцам ничего ценного. Напротив, пришельцы, мол, зачастую грабили местное население и ввергали его в кровопролитные братоубийственные столкновения на религиозной почве. Однако многочисленные свидетельства современников описываемых событий (и европейцев, и японцев) говорят об ином.
На самом деле японцам удалось воспринять от европейцев очень многое. Так или иначе, европейцы были носителями не только совершенно незнакомой, но и высокой культуры. К тому же Японию «открывали» не только своекорыстные купцы и фанатичные иезуиты, но и незаурядные личности вроде талантливого учёного Морейры, в течение двух лет (1590–1592) исследовавшего Японские острова и впервые составившего точную географическую карту Японии и Северо-Восточной Азии.
Соприкосновение с чужой культурой отразилось в произведениях японской литературы. Остановимся для начала на кратком анализе особо примечательной, на наш взгляд, повести о христианах и христианстве в Японии «Кириситан-моногатари», написанной в 1639 г. Дата создания и тенденциозный характер данного произведения ясно указывают на то, что анонимный японский автор (или авторы, поскольку разные части повести написаны в резко отличающейся друг от друга манере) выполнял социальный заказ. Ведь 1639 год – время окончательного изгнания европейцев из Японии. Поэтому основной задачей повести является дискредитация христианства и его последователей всеми доступными средствами.
Сначала автор приглашает читателей посмеяться над христианами и дает намеренно искаженный портрет типичного христианина (в качестве такового выступает португальский монах Батерен), подчёркивая нелепость его поведения: «Из корабля появилось неизвестное существо, сходное по виду с человеком, но выглядящее, однако, гораздо более похожим на тэнгу.[111 - Существо, напоминающее домового; обладает чрезвычайно длинным носом.] После расспросов выяснилось, что это существо называлось Батерен. Длина его носа – вот первое, что привлекло внимание: нос был похож на морскую раковину, хотя и без наростов, присосавшуюся к его лицу. Его глаза были огромны, а внутри – жёлты. Голова маленькая, на руках и ногах – длинные когти. Он был высок и чёрен с ног до головы, лишь нос был красен. Его зубы превосходили по длине лошадиные, а волосы были мышиного цвета. На лбу – шрам от опрокинутой винной чаши. Его речи были вовсе непонятны, голос звучал пронзительно, как крик совы».[112 - Elison G. Deus Destroyed. The Image of Cristianity in Early Modern Japan. Cambrige (Mass.): Harvard Univ. Press, 1973. P. 321.]
Но автору повести недостаточно вызвать у читателей презрительную усмешку,[113 - Заметим, кстати, что повесть снабжена иллюстрациями, карикатурно изображающими христиан.] ему надо ещё и попугать их. Для этого он красочно изображает ужасные казни христиан, предостерегая своих соотечественников и грозя неизбежной расплатой всякому, кто осмелится стать христианином.
И наконец, дабы окончательно опорочить христианские идеи, создатель «Кириситан моногатари» описывает теологический диспут между иезуистским монахом-японцем по имени Фабиан[114 - Фабиан Фукан – очень интересная фигура христианского века в Японии и его жизнь заслуживает специального рассмотрения.] и буддийским монахом Хакуо Кодзи из секты Дзэн. Они приглашены вдовой одного из владетельных даймё, с тем чтобы в ходе спора установить единственно правильный путь спасения души этой набожной женщины. Первым слово предоставляется иезуиту. Из его уст мы слышим сначала сжатое изложение событий Ветхого Завета: историю сотворения мира, человека и человеческого грехопадения. Попутно Фабиан отмечает превосходство христианского Бога-творца, вечного, бессмертного и всемогущего, над буддийскими и синтоистскими божествами – Буддами, Бодхисаттвами и ками, являющимися по своей природе просто необычными воплощениями человеческих существ. «Великий Бодхисаттва Хатиман, – говорит иезуит, – на самом деле есть император Одзин, который был человеком».[115 - Elison G. Deus Destroyed. Р. 344.] «Всех неверующих грешников, – продолжает он, – ждут страшные муки ада, а идущие по пути добра христиане обязательно попадут в рай».[116 - Ibid.] Далее он коротко рассказывает евангельскую историю Иисуса Христа, рождённого непорочной девой Марией, чтобы искупить людские грехи. В заключение монах превозносит могущество огромной страны «южных варваров»,[117 - Яп. намбан – так называли иностранцев, явившихся с южной стороны.] по сравнению с которой все Японские острова – лишь крошечная песчинка. Он поясняет высокий и благородный смысл проповеднической деятельности посланцев этой страны, призванных просветить и спасти погрязший в заблуждении японский народ.
В спор вступает буддийский монах и задаёт своему противнику ряд вопросов-опровержений. Начнём с того, говорит он, что в самых древних буддийских книгах[118 - Имеются в виду «Кодзики» (Записи о деяниях древности) и «Нихонги» (Анналы Японии) – первые письменные памятники японского народа, появившиеся в VIII в. н. э.] нет никакого упоминания о всемогущем христианском Боге. Из них известно о совсем других богах. Но, предположим, христианский Бог всё-таки существует. Для чего этому Богу нужно было создавать человека? «Это была игра? Или, может быть, Господь почувствовал себя одиноким и сотворил человека, чтобы иметь товарища для бесед или просто шута? – иронизирует буддист. – Далее, если христианский Бог создал людей, то почему же тогда он не смог сразу утвердить своё единое истинное учение среди всего человечества, и его бедные апологеты-миссионеры вынуждены преодолевать громадные расстояния, избегать многих опасностей лишь для того, чтобы распространить это учение на столь маленьком клочке Земли, как Япония? По поводу же Иисуса Христа можно только удивляться, что объектом поклонения выступает слабый, убогий, беспомощный человек, не сумевший воспротивиться истязаниям и распятый на кресте. И может быть, Христос действительно заслужил такое обращение, будучи сыном Бога, создавшего по своей прихоти людей и заставившего их страдать в этом несовершенном мире? Вообще, христианский Бог кажется мне дьяволом»,[119 - Elison G. Deus Destroyed. Р. 347.] – заключает буддийский монах и разражается грубой бранью: «Выгоним святую Марию отсюда! Она дала жизнь невоспитанной безотцовщине. Я бы побил её ногами!».[120 - Ibid. P. 348.]
Затем этот монах популярно излагает буддийское учение и завоёвывает расположение вдовы, признавшей истинность его аргументов. Итак, торжествует буддизм. Вот она – настоящая истина, настоящая вера наших предков, резюмирует «Кириситан моногатари», апеллируя к патриотическим чувствам читателей-японцев.
Однако попробуем посмотреть на всю эту антихристианскую апологетику трезвыми глазами незаинтересованного читателя. Начнём с внешнего вида христианина. Действительно, облик изображаемого в повести Батерена смешон и нелеп. Причем нелеп до абсурда – только никогда не видевший европейцев и чересчур наивный человек сможет поверить в то, что они таковы на самом деле. Кроме того, если христианин, этакое чудище, удостоился специального столь подробного описания, то значит он у автора вызывал несомненный интерес.
Что касается изображения страшных казней последователей Христа, то, хоть создатель повести и считает эти казни справедливыми, он в то же время признаёт необычайную стойкость и мужество христиан, готовых за веру пойти на костёр или быть распятыми. Мало того, он свидетельствует, что после казней люди растаскивают кусочки крестов на амулеты, веруя в их чудодейственную силу. Так в повести невольно констатируется вера населения в могущество христианства.
Что касается попытки теологического развенчания христианства на примере диспута Фабиана с буддийским монахом, то здесь важно заметить, что всякую религиозную догматику можно условно разделить на две части. Первая – это сакральные «истины веры», находящиеся на недосягаемой для разума высоте и принимаемые поэтому без доказательств. Вторая – часто выступающие объектом философских спекуляций теологов так называемые истины разума, якобы доступные определённому рациональному обоснованию и пониманию. Но даже христианские философы прекрасно сознают, что истины веры в отличие от «доказуемых» истин разума, не стоит подвергать интеллектуальному анализу, дабы не дискредитировать их.[121 - См. произведения Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского, а также современных неотомистов.] Естественно, любая, даже самая изощренная попытка рационально доказать истинность какой бы то ни было религии обречена в конечном счёте на провал.
Данное обстоятельство часто берется на вооружение не только атеистами, но и теологами в случае необходимости эффективной критики чуждой им религиозной системы. Аналогичную ситуацию демонстрирует диспут в «Кириситан моногатари». Некоторые критические аргументы буддийского монаха в отношении христианских истин веры вполне резонны.[122 - Мы имеем в виду не их форму, а смысл.] Но всё дело в том, что эти же аргументы с равным успехом могут быть отнесены и к самому буддизму, в котором тоже присутствуют недоказуемые рационально истины веры. Правда, христианину не отводится места для подобной критики буддизма, тогда как буддисту дана полная свобода поливать грязью христианство и издеваться над ним. К тому же буддист – в расчете на симпатии читателя – постоянно подчеркивает свои патриотические чувства и свое преклонение перед верой предков. Буддист побеждает в споре только потому, что он должен победить по замыслу автора повести. «Кириситан моногатари» – наглядный пример пропагандистского сочинения, используемого властями с целью опорочить христианство.
Интерес японцев к христианству, помимо прочего, способствовал выдвижению из их числа незаурядных мыслителей религиозного толка. Однако вновь обращённым теологам приходилось преодолевать сопротивление некоторых иезуитских иерархов, ревниво оберегавших свой приоритет в вопросах веры, видящих в местном населении людей второго сорта, пассивную паству, «человеческий материал» для утверждения воли Господней и тем самым отталкивающих японцев от христианства. Таким религиозным снобом был, например, глава иезуитской миссии в Японии в 1570–1581 гг. Франсиско Кабрал.[123 - Среди миссионеров были и более дальновидные руководители, такие как о. Валиньяно, который в отличие от Кабрала хорошо относился к японским неофитам. В тщательном изучении культуры Японии, учете её специфики, благожелательном отношении к её народу он видел залог успешной проповеднической работы.] Убежденный в никчемности язычников-азиатов лишь на том основании, что их культурные и религиозные традиции были непривычны и отличны от европейских, Кабрал стремился всячески ограничивать функции японских христиан в церковной деятельности. Он смотрел свысока на японцев, сдерживал их инициативу, не давая продвигаться по ступеням иезуитской иерархии; препятствовал изучению латыни и португальского языка, сохраняя таким образом языковой барьер между высшими (европейцы) и низшими (японцы) чинами иезуитов. Вот почему многие христиане-японцы отчасти из-за колебаний официальной политики японских властей, отчасти из-за обид постоянно уязвлённого иезуитами самолюбия предавали христианство. Показательна в этом отношении судьба одарённого японского теолога Фабиана Фукана, получившего известность сначала в качестве апологета христианства в Японии, а затем в качестве его ярого врага.[124 - Фуканом написаны про- и антихристианские работы: «Мётэй мондо» (Диалог о чудесной истине) и «Ха Дайусу» (Против Бога). Сам он выведен поборником христианства в книгах: «Ха ясо» (Против иезуитов) Хаяси Радзана; «Кириситан моногатари» (Повесть о христианстве); «Намбандзи кохайки» (Взлёт и падение храма южных варваров). Существует версия, что в той же «Кириситан моногатари» позднейшие взгляды Фукана изложены устами дзэнского монаха Хакуо Кодзи – противника христианства. Знаменитый японский пистель Акутагава Рюноскэ также сделал Фукана героем одного из своих рассказов.]
Как свидетельствуют отчёты португальских миссионеров, Фабиан Фукан родился в 1565 г. До своего крещения (предположительно в 1586 г.) он был дзэнским монахом-буддистом, что подтверждается и содержанием его работ, демонстрирующих превосходную осведомлённость автора в буддийской догматике. Обратившись в христианскую веру, Фукан стал её горячим поклонником, выучил латынь. Он принимал участие в теологических дискуссиях с буддистами на стороне христиан и сочинял труды, прославлявшие учение Христа. В 1605 г. Фукан создаёт «Мётэй мондо» – прохристианское произведение, описывающее беседу двух монахинь, в ходе которой доказывается и восхваляется истинность христианства в противоположность буддизму, конфуцианству и синтоизму. Через год, в 1606 г., состоялся диспут между Фуканом и ставшим впоследствии очень известным неоконфуцианцем Хаяси Радзаном. Запись этого диспута Хаяси опубликовал под заглавием «Ха ясо» (Против иезуитов).
Интересны взгляды ещё одного из приверженцев японского «типа мышления», видного теоретика и популяризатора японского буддизма Судзуки Дайсэцу. По его мнению, специфической чертой «типа мышления» и поведения японцев, японской морали является интуитивное постижение бытия, буддийское по своему характеру. «Буддийская философия, – пишет он, – это система саморазвёртывающейся и самодифференцирующейся праджня (интуиции)».[89 - Suzuki D. T. Zen and Japanese Culture. Princeton. 1971. P. 84.] Она определяет особую «буддийскую моральность» японского народа. Праджня обладает не только гносеологической, но и онтологической характеристикой. Будучи единосущной с Абсолютом, лежащим в основе мира, праджня выступает высшим родом познания, преодолевающим дихотомию субъект – объект. Именно факт невозможности разделения единой реальности на субъект и объект без привлечения понятия Абсолюта Судзуки считает аргументом в пользу сверхразумности праджня, «трансцендентной всем видам суждения».[90 - Ibid. P. 73.]
Знаки японской иероглифической письменности, неудобные для передачи дискурсивного мышления, буддийский философ оценивает как удобный инструмент для праджня, поскольку каждый иероглиф «пробуждает конкретные представления, полные недифференцированных импликаций, и является наиболее совершенной формой выражения интуитивно-образного типа мышления».[91 - Ibid. P. 77.] Судзуки считает, что буддистов всего мира объединяют особенные мораль (совпадающая с мировым Законом) и «интуитивно-образный тип мышления». В связи с этим уместно вспомнить слова Гегеля, писавшего что «конкретное заимствуется из обычного представления, которое не может содержать в себе логических принципов, работающих именно в теоретическом познании и отнюдь не лежащих в основе интуитивного мышления».[92 - Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии // Гегель Г. В. Ф. Собрание сочинений: В 14 т. М.; Л. 1929–1958. Т. 9. Л., 1932. С. 112.] Логические принципы используются мыслящим субъектом сознательно, а не интуитивно. Логическое мышление подразумевает усилие, постоянное внимание к соблюдению логических законов; оно вскрывает противоречивость образного восприятия действительности, его непоследовательность и ограниченность путём анализа внутренней связи явлений. Ориентируясь лишь на интуитивные критерии, мышление утрачивает свой действительный объект познания, заменяет его неким Абсолютом и становится субъективным, иллюзорным по характеру.
Значение, придававшееся японцами-буддистами интуитивному познанию, которое противопоставлялось дискурсивному мышлению (как «неистинному», неспособному постичь буддийское единство мира, разлагающему всё на части и расчленяющему субъект-объектное единство буддийского бытия на «мёртвые» противоположности) вполне объяснимо. Японский язык с его иероглификой, естественно, препятствовал возникновению системы формальной логики и даже её усвоению японскими мыслителями, являлся тормозом для распространения абстрактного мышления в Японии, общественное сознание которой веками находилось в русле влияния буддийской традиции. Это наложило отпечаток и на моральные представления японцев.
Интуитивное познание, а точнее своеобразный «нравственный инстинкт», интуитивное воспроизведение индивидами моральных норм – неотъемлемое и необходимое качество всякого общественного нравственного сознания. Этим, в частности, мораль как особая форма общественного сознания отличается, скажем, от науки или даже философии. «Сама мораль есть синтез… чувственного и рационального, конкретного и абстрактного. Это такое чувственное, где есть своя логика, не менее «железная», чем формальная. Это такое рациональное, которое само оперирует эмоционально-волевыми ансамблями. Интуиция здесь выступает в единстве чувственного и рационального моментов, как способ ускоренной, непосредственной ориентации в мире социальных ценностей».[93 - Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания. М., 1974. С. 242–243.] В этом плане следует признать, что претензии японских исследователей, подчёркивающих достоинства моральных установок японского народа, не лишены оснований: «нравственный инстинкт» японцев на самом деле необыкновенно силён, впечатляет их способность угадать и прочувствовать тонкости самой деликатной ситуации. Это качество может составить гордость японской нации, её действительно характеристическую черту в мировом сообществе. Но отсюда совсем не следует, что японцы обладают каким-то особым моральным «типом мышления», неизменно сохранявшимся во все времена. В ходе становления и развития капитализма в Японии там вступили в силу и общие закономерности моральной регуляции. Поэтому японская общественная мораль, несмотря на попытки националистически настроенных идеологов представить её вечной, неизменной, одинаковой для всех японцев и независимой от социальных условий, претерпела и продолжает претерпевать значительные изменения.
* * *
При встрече Японии с западной цивилизацией в XIX в. возникла ситуация, которая явилась как бы новым вариантом событий двенадцативековой давности, ознаменовавшихся контактами с Китаем. Тогда, в VII в., Япония, пережив в зачаточном виде рабовладение, познакомилась с китайским образцом феодальной организации общества и успешно заимствовала его. Теперь, следуя примеру государств Запада, Страна Восходящего солнца за столетие совершила резкий скачок и стала передовой капиталистической державой, практически миновав домонополистическую стадию. Установки индивидуального сознания японцев в период утверждения капиталистических отношений не успели в силу краткости этого периода перестроиться полностью на капиталистический лад. Для идеологов же новой Японии «сословно-статусная мораль феодального общества оказалась счастливой находкой. Моральное освящение отношений покровительства, патернализм, корпоративность, иерархичность, ритуализм поведения – все эти особенности феодальной морали можно было эффективно использовать для оправдания и закрепления господства монополий и трестов в условиях своеобразного империалистического неофеодализма».[94 - Там же. С. 75.]
Наиболее ярко это проявилось в период Второй мировой войны. Милитаристские круги Японии широко использовали моральный код системы обязанностей для разжигания у масс чувства фанатизма во исполнение решения императора сражаться до последнего человека. На щит был поднят моральный кодекс самурайства бусидо, жертвами следования которому стали тысячи японцев.
Авторы послевоенных концепций японской морали отказались от наиболее агрессивных националистических лозунгов «нравственного гегемонизма». Однако в последнее время они всё чаще начинают звучать в работах современных исследователей, стремящихся интерпретировать и использовать традиционные нравственные представления японцев.[95 - См. указанные сочинения Коямы Ивао, Мисимы Юкио, Дои Такэо, а также: Idemitsu S. Dotoku of Japan Differs Fundamentally from Western Moral. Tokyo, 1973.] Причем эти исследователи сознательно смешивают понятия японской общественной официальной морали и нравственные представления японского народа, выдавая их за нечто единое. Прикрываясь целью «духовно объединить» нацию, «встать выше» общественных противоречий, эти идеологи играют на патриотических чувствах японцев, чтобы таким образом способствовать обеспечению стабильности государственной системы и активизации борьбы Японии со своими конкурентами на мировой арене. Однако именно нравственная культура японского народа, ратующая за человечность отношений, взаимное уважение, ненасилие, равенство людей, за их единство в решении общих задач, по сути дела противостоит национализму, на почве которого произрастают идеи шовинизма, милитаризма и гегемонизма. Неслучайно прогрессивные представители японской философской мысли ведут непрекращающуюся борьбу с националистической идеологией, подвергая обоснованной научной критике её мировоззренческие (и этические в том числе) концепции.[96 - См.: Янагида Кэндзюро. Философия свободы. М., 1958. С. 189–193; Уэда Кодзи, Фува Тоса. Марукусусюги то гэндай идеороги (Марксизм и современная идеология). Токио, 1964; Сакаки Тосимицу. Марукусусюги то дзицудзонсюги (Марксизм и экзистенциализм). Токио, 1968; Мори Кошпи. Юйбуцурон-но сисо то тосо (Идеология и борьба материализма). Токио, 1971; Кодзаи Ёсисигэ. Современная философия. Заметки о «духе Ямато». М., 1974.]
«Христианский век» в Японии. К проблеме взаимодействия национальных культур
Будь ты и впрямь европейцем, а я китайцем, говори мы на разных языках, мы и тогда, при наличии доброй воли, могли бы очень многое поведать друг другу и сверх того, очень многое угадав, и почувствовать.
Герман Гессе
Проблема взаимоотношения Востока и Запада с их традиционно противопоставляемыми культурами давно привлекает внимание российских и зарубежных учёных.[97 - См., напр., работы Н. И. Конрада, Е. В. Завадской, Т. П. Григорьевой, Дж. Сэнсома, Д. Кина и др.] Однако при этом исследуется, как правило, влияние Востока на западную культуру. Нас же, напротив, интересует проблема западного влияния на восточную, в частности на японскую, культуру.
Исследовать воздействие одной культуры на другую довольно затруднительно ввиду необходимости учитывать множество переплетающихся тенденций и факторов, возникающих в процессе взаимоотношений между народами на протяжении истории. Большинство национальных культур давно оказались включёнными в единое мировое культурное сообщество – человеческую цивилизацию. Феномен Японии, долгое время находившейся в изоляции от внешнего мира (вначале – исторически сложившейся, обусловленной островным положением страны, а впоследствии – искусственно созданной правящей феодальной верхушкой с целью сохранения своего политического и духовного господства), кажется нам в этом контексте особенно ценным. Основные контакты японцев с представителями других цивилизаций фиксированы во времени, что делает Японию уникальным объектом для изучения процессов проникновения инородного материала в культуру самостоятельно развивающегося народа. Крайне интересны в этом плане контакты японцев именно с европейцами, с их культурой, значительно отличающейся от восточной культуры соседних народов. Не претендуя на полноту выводов, мы попытаемся рассмотреть некоторые последствия первого, почти столетнего периода (так называемого христианского века) общения японцев с посланцами западного мира в лице сначала португальских миссионеров и торговцев, а затем их коллег из Испании, Англии и Голландии.
Внешние связи Японии до 1542 г. ограничивались контактами с Китаем и Кореей. Более развитый Китай на протяжении нескольких веков выступал в качестве недосягаемого образца культуры, идеала совершенства, к которому следовало стремиться. А всё китайское, начиная с государственной структуры и мировоззрения и кончая планировкой крупных городов и образцами стихосложения, являлось предметом подражания. Знакомство с достижениями китайской цивилизации стимулировало творческую активность и самих японцев, заставляло их пристальнее взглянуть на собственные национальные проблемы. Это привело к возникновению высокой самобытной культуры, ярко проявившей себя в эпоху Хэйан в выдающихся творениях искусства и литературы. Однако для укрепления этнического самосознания, более чёткого определения своего места в мире, невозможного без соотнесения себя с другими народами, для изменения масштаба видения мира японцы нуждались во всё новой информации о Земле, о народах, населяющих другие страны, нуждались в постоянном расширении торгово-экономических и культурных связей с этими народами.
В 40-е годы XVI в. после установления первых контактов с европейцами в Японии наступил так называемый «христианский век». Это время может служить прекрасной иллюстрацией процесса соприкосновения и взаимодействия до сих пор независимо развивающихся народов. Особенно интересна реакция японцев, которые поскольку опять, как в своё время в отношении Китая, стали преемниками достижений иной цивилизации. Конечно, и европейцы многое почерпнули у японцев. Но после первого знакомства с Японией западный взгляд на мир в целом остался прежним – были только внесены уточнения в географические карты и описан ещё один народ. Сознание же японцев претерпело довольно основательные изменения: «В результате общения с европейцами японцы узнали, что кроме государства Кара (Китай) и Тэндзику (Индия), которыми до этого в их представлении и ограничивался мир, существуют цивилизованные страны Запада. Так впервые перед их взором предстала наша Земля. И Нобунага, и Хидэёси, и Иэясу[98 - Верховные правители феодальной Японии.] благодаря глобусу и картам мира узнали, какое положение на земном шаре занимает Япония. И здесь необходимо отметить, что взгляд японцев на вселенную с этого времени полностью изменился».[99 - Иэнага Сабуро. История японской культуры. М., 1972. С. 139.]
Благодаря торговым операциям состоялось знакомство японцев с материальной культурой Запада, ремеслом, естественнонаучными представлениями и т. п. Японское население восприняло всё это с точки зрения полезности и постаралось усвоить.[100 - Особенно сильно влияние европейцев сказалось на развитии астрономии, географии, судостроения, шахтного дела и металлургии.] Европейцы, со своей стороны, помимо чисто экономических стремились добиться и определённых религиозно-политических целей, прежде всего – «христианизации» японцев, вовлечения их в сферу своего духовного влияния. И весьма успешно, доказательством чего служит распространение христианства в Японии в кон. XVI – первой пол. XVII вв. Китайские духовные стереотипы, достаточно прочно укоренившиеся в сознании японцев за долгие годы, не смогли помешать восприятию и усвоению христианских догм.
Первые европейцы попали в Японию случайно.[101 - Правда, европейцы уже давно стремились к «прекрасной стране Зипангу», как называл Японию побывавший ещё в XIII в. в Китае и почерпнувший там сведения о ней знаменитый венецианский путешественник Марко Поло. По лучшим в мире (для того времени) картам португальцы точно знали географическое положение Японии, и посещение этой страны, вероятнее всего, входило в их ближайшие планы.] До этого они появились сначала в Китае: в августе 1517 г. корабль португальского купца Фернандо Переса д’Андраде, прибыл в Кантон из Малакки. Невиданное доселе судно и необычные товары вызвали живой интерес у местных жителей, и в первую очередь у китайских купцов. Власти же сначала смотрели сквозь пальцы на бурную деятельность, которую вскоре развернули здесь португальцы, не запрещая, но и не поощряя её. Однако столь мягкое, нейтральное отношение китайских правителей к «южным варварам»[102 - Окружавшие их народы китайцы считали варварами и различали их лишь по тому, в направлении какой части света от Китая (Срединной страны) они обитали. Соответственно, их обозначали «северными», «западными» и т. п. «варварами». Поскольку первые португальцы попали в Китай со стороны южных морей, они стали именоваться «южными варварами». Отсюда же и их японское название – намбан, т. е. «южные варвары».] продолжалось недолго и было прервано по вине последних.
Первый официальный запрет на торговлю с португальцами последовал уже в 1519 г. Поводом для него послужило недостойное поведение Симао д’Андраде, младшего брата упомянутого выше Фернандо (дебоши, кражи китайских детей с целью продажи в рабство). Китайские власти сочли, что Симао и ему подобные злоупотребляют их благосклонностью и терпением. Тем не менее экономические выгоды китайского купечества, заинтересованного в сотрудничестве с европейцами в морских перевозках (португальские корабли были значительно большего водоизмещения и надёжнее в длительном плавании), оказались выше соображений морали и, несмотря на запреты, торговля продолжалась на неофициальном уровне.
В 1542 г. один из португальских кораблей принесло штормом к японским берегам. А уже в 1543 г. португальцы организовали экспедицию в Японию и их суда бросили якорь у острова Танэгасима.
Япония второй половины XVI в. представляла собой феодальное государство, состоящее из разрозненных удельных княжеств, управляемых крупными феодалами – даймё. Все они стремились к максимальной автономии, но автономию могло обеспечить только могущество, подкреплённое богатством. Одним же из важнейших источников богатства была торговля. Поэтому заинтересованные в торговле с португальцами западные даймё охотно допустили их в свои владения.
В августе 1549 г. в Японию прибыл миссионер-католик, член ордена иезуитов Франциск Ксавье и семь его сподвижников (в том числе трое японцев – выпускников иезуитского колледжа св. Павла в Гоа). Они высадились в г. Кагосима, столице княжества Сацума и, не теряя времени, приступили к проповедям, а затем и крещению местного населения. Дело продвигалось весьма успешно. Ксавье так характеризовал японцев: «Эти – лучший народ, обнаруженный столь далеко, и кажется мне, что среди неверующих нельзя найти народа, превосходящего их».[103 - Цит. по: Sansom G. B. A History of Japan. Vol. 2: 1334–1615. Stanford: Stanford Univ. Press, 1961. P. 115.] Глава иезуитов познакомился с сацумским даймё Симадзу Такахиса и снискал его расположение своими прекрасными манерами и образованностью. Выяснив, однако, что Такахиса не является правителем всей Японии, Ксавье после десятимесячной деятельности отправился в столицу к самому императору в надежде открыть ему истины христианства и убедить в необходимости крещения всего японского народа. Но к императору он не был допущен, и визит не состоялся.
Всё же Ксавье удалось завязать новые знакомства в столице. Он добился расположения ещё нескольких даймё и увлёк их перспективами дальнейшего экономического сотрудничества с Западом. Как и сацумский правитель Такахиса, эти даймё согласились допустить иезуитов в свои владения. Кроме того, Ксавье имел в столице несколько теологических бесед с монахами буддийской школы Сингон. Несмотря на то, что обе стороны отметили сходство исповедуемых ими религий, Ксавье пришёл к убеждению, что даже в этой, наиболее близкой по духу христианству школе «сатана прочно укоренился».[104 - Ibid. P. 119–120.] (Основателя школы Сингон – крупного японского мыслителя Кукая (774–835), чьи творчество и деятельность во многом определили стиль духовной жизни Японии хэйанского периода, португальцы стали считать одним из воплощений сатаны.) Поэтому иезуиты упорно развивали свою миссионерскую деятельность ради христианского «спасения» народа Японии. Здесь даже начали возводиться католические церкви, где тысячи вновь обращённых христиан могли беспрепятственно слушать проповеди и молиться.
Первый из великой тройки объединителей Японии сёгун (военачальник) Ода Нобунага (1534–1582), положивший начало укреплению единой централизованной власти, признал христианство и благоволил к иезуитам. Он даже заинтересовался созданием католической семинарии и выделил соответствующее место для неё. Произошло это, вероятно, по двум причинам. Во-первых, привлекали экономические выгоды сотрудничества с заморскими гостями. А во-вторых, нужен был противовес росту духовного и политического влияния буддизма.[105 - Стремясь к единовластию во всех сферах жизнедеятельности государства, Ода вёл ожесточённую борьбу с экономически сильными и идеологически независимыми буддийскими монастырями.] Такое высокое покровительство христианству способствовало его дальнейшему распространению христианства не только на западе страны, но и в центральных провинциях. Креститься стало модным.
Письма отцов-иезуитов того времени свидетельствуют о стремительном росте числа японских христиан-неофитов. Так, о. Вилем писал, что количество христиан в Японии, главным образом в западных провинциях, в 1571 г. составляло 30 тыс. человек. Миссионер о. Органтино писал тогда же, что за шесть месяцев он крестил около семи тыс. человек. О. Фруа сообщал о наличии только в одном из районов столицы пяти тысяч христиан. К началу 80-х гг. XVI в. в Японии насчитывалось уже 130 тыс. последователей Христа; по данным о. Валиньяно (1582) – 150 тыс., двести церковных храмов и две семинарии. В провинциях Бунсо, Арима и Тоса сами правители были христианами. И это спустя всего лишь 30 лет с момента прибытия в страну проповедников, количество которых в первые десять лет не превышало дюжины! Даже если мы сделаем скидку на преувеличение иезуитами плодов своего миссионерского рвения и сократим цифры вдвое, всё равно картина получается впечатляющая. «Если ранее ввезённый из Китая буддизм насаждался сверху, ибо это соответствовало субъективным запросам господствующего класса Японии, и распространялся почти безотносительно к китайским религиозным организациям как таковым, – пишет историк японской культуры Иэнага Сабуро, – то христианское учение, успешно проповедовавшееся миссионерами из европейских католических орденов, сразу же было обращено к массам и за короткое время привлекло на свою сторону многочисленных последователей».[106 - Иэнага Сабуро. История японской культуры. С. 140.]
Захвативший власть в 1582 г. Тоётоми Хидэёси (1536–1598) также поощрял иезуитов. Некоторые его приближённые являлись христианами и занимали высокие ступени в иезуитской иерархии. Таков был, например, советник Кониси Рюса, назвавший своего сына Августином и отдавший его на воспитание иезуитам; а также советник Такаяма Нагафуса, который во времена последовавших гонений на христиан спасал верующих. Тоётоми не раз благосклонно принимал у себя иезуитов высокого ранга. Так, побеседовав с о. Органтино в 1583 г., он пожертвовал в пользу церкви участок земли в г. Осака, где собирался основать новую столицу страны. В 1586 г. состоялась его встреча с большой группой иезуитов. Тоётоми хвалил их деятельность и делился своими планами захвата Кореи и Китая с последующим насаждением там христианства. Интересно, что на нескольких знамёнах этого сёгуна красовался христианский крест. Как и его предшественник, Тоётоми продолжал борьбу с буддийскими монастырями и разрушил некоторые из них. Успешно проведя летом 1587 г. кампанию по подавлению мятежных феодалов центральной Японии, Хидэёси пожаловал там иезуитам земельные участки для строительства церквей.
На фоне столь доброжелательного отношения к христианам тем более неожиданным явился эдикт Тоётоми Хидэёси от 25 июля 1587 г., запрещающий миссионерскую деятельность в стране и обязывающий всех иезуитов покинуть Японию в двадцатидневный срок. Непосредственные причины появления данного эдикта нам не известны. Можно лишь предполагать, что он был издан из-за возникшей обеспокоенности японского правителя слишком уж быстрым ростом влияния христианских проповедников, объединявших верующих вокруг себя в духовные союзы, которые со временем могли бы стать угрозой центральной власти.
Иезуиты вынуждены были прекратить крещение населения и проповеди. Но благодаря всё ещё достаточно либеральному отношению Тоётоми, готовому терпеть западных христиан у себя дома во имя выгод торговли, некоторые из них продолжали жить даже в столице. Постепенно миссионерская деятельность возобновилась, и к 1592 г. появилось ещё 52 тыс. новообращённых.
Такое положение длилось до 1593 г. и было нарушено вторжением в Японию испанских францисканцев. Прибыв с Филиппин, они, невзирая на указ 1587 г., открыто стали проводить массовое крещение населения и самовольно строить церкви. Обеспокоенный Тоётоми попытался было с ними договориться. Он послал представителей к испанскому губернатору Манилы и сам принял испанских эмиссаров. Однако грубость испанцев, безусловная уверенность в собственных «благих» целях, оправдывающих любые средства, отнюдь не способствовали налаживанию добросердечных отношений. Францисканцы демонстративно продолжали свою деятельность, ведя при этом разговоры о грядущем испанском владычестве над Японией. Это было слишком даже для Тоётоми Хидэёси.
В 1597 г. последовал новый, гораздо более строгий эдикт против христиан. Настал час их жестоких гонений. В феврале 1597 г. была арестована, а затем распята на крестах целая группа францисканцев, в том числе и вновь обращённые японцы. Забегая вперёд, отметим, что в последующие годы число казнённых христиан составляло от двух до восьми человек в год (кроме 1605 г., когда был уничтожен целый семейный клан Ямагути – 102 человека) и достигло к 1612 г. 132 человек. Все они были японцами.[107 - См.: Sansom G. B. A History of Japan. Р.172.]
Преемник Тоётоми Хидэёси, сёгун Токугава Иэясу (1542–1616), опять же ради выгод торговли, решил восстановить дружеские отношения с европейцами и разрешил им миссионерскую деятельность. Он обратился к губернатору Филиппин, предлагая сотрудничество и давая понять, что не будет строг в отношении христиан. Но вскоре Токугава (а позже и его наследники), как и Тоётоми, видимо, осознал, что распространение христианства, на первый взгляд безобидного, влечёт за собой эрозию религиозно-нравственных представлений синтоизма, конфуцианства и буддизма, на которых зиждилось социальное и духовное единство управляемого им народа.
С 1614 по 1639 гг. последовала серия эдиктов, показывающих, что сёгунское правительство – бакуфу пошло на ослабление своих позиций в экономике ради пресечения «идеологической» опасности. Торговые отношения с Западом, ставшие к тому времени прерогативой бакуфу, были почти полностью прекращены, а все иностранцы выдворены из страны, за исключением небольшой колонии голландцев-протестантов на о-ве Дэсима.
Преследования же собственных христиан возобновились с ещё большей силой и достигли пика в 1625 г.[108 - По свидетельству миссионеров, к 1614 г. в Японии было 653 тыс. взрослых христиан, не считая детей. Всего их было 750 тыс. человек. Вероятно, можно с осторожностью говорить о реальной цифре в 300–400 тыс верующих, тоже достаточно впечатляющей.] В 1638 г. было жестоко подавлено 37-тысячное восстание на п-ове Симабара, руководимое христианами. Христианство искоренялось огнём и мечом. Казни продолжались до 1660 г., так или иначе подверглись наказанию 200 тыс. человек. Около ста тысяч продолжали исповедовать христианство тайно, их приютами стали небольшие острова Японского архипелага.
Надо сказать, японские адепты Христа стойко вынесли всю тяжесть обрушившихся на них репрессий и на протяжении более чем 220-летнего периода закрытия страны, передавая из поколения в поколение христианские заветы, смогли сохранить свою веру.[109 - Сразу же после открытия страны в середине XIX в. христиане объявились на юго-западе Японии. За двести лет тайного вероисповедания их литургика изменилась до неузнаваемости. Японские христиане, так сказать, японизировали католические обряды, придав им национальный колорит. Следовательно, христианские идеи нашли в душах некоторых японцев горячий отклик и глубоко проникли в их сознание.] В связи с этим важно было бы отметить разницу в отношении к европейцам, их культуре, существовавшую между Китаем и Японией как в сфере официальной политики, так и в сознании простого народа. Деловая активность японцев и их очевидный интерес к христианству являют собой контраст равнодушию к европейцам со стороны Китая, где к началу XVIII в. было «христианизировано» лишь 100 тыс. человек – мизерная цифра для такой огромной страны.
Представляется, что заинтересованность японцев была обусловлена особенностью их культурного развития: здесь был очень высок, по крайней мере до X в., авторитет иностранной, прежде всего китайской, традиции. Японцы в течение нескольких веков выступали в роли рецепторов чужеземной (пусть и близкой им по духу) культуры. Вряд ли они восприняли западные образцы как нечто более высокое, по сравнению с их собственной цивилизацией, но их любопытство и любознательность были велики. В то время как китайцы в течение долгого времени находились в привилегированном положении по отношению к соседним народам[110 - Китай с глубокой древности был одним из центров мировой цивилизации и значительно опережал вплоть до XIX в. в своём экономическом и культурном развитии многие соседние страны.] и смотрели на прибывших европейцев свысока, японцам их более скромное положение помогло правильнее оценить пришельцев: к ним отнеслись не как к чему-то «высшему» или «низшему», а как к просто иному.
Разрыв с христианским миром принес сёгунату и крупнейшим даймё – Симадзу Мацуура, Набэсима и Омура – немалые убытки. Прекратилась практикуемая ими с начала XVII в. выдача лицензий судовладельцам на торговлю с заграницей. Замерла деятельность японских торговых поселений, рассеянных по всей Юго-Восточной Азии. Пустынны стали окружающие Японию морские пространства. Их уже не бороздили европейские суда, перевозившие прежде товары японского экспорта и импорта. В самой Японии особенно большие убытки понёс порт Нагасаки, так как все его жители прямо или косвенно были связаны с внешней торговлей, что обеспечивало им более высокий, чем в других областях страны, уровень жизни. Все торговые отношения Японии с западным миром свелись к курсированию единственного корабля из колонии на о-ве Дэсима, делающего только один рейс в год. Несомненно, и европейцы многое утратили с закрытием для них Японии. И не только материальных выгод – они лишились общения с доброжелательным и самобытным народом, оставившим у многих из них самое благоприятное впечатление.
Среди историков существует мнение, что алчные, ограниченные, не очень образованные европейцы, преследовавшие в Азии свои цели, не считавшиеся с интересами местного населения и не интересовавшиеся оригинальной культурой, не могли дать японцам ничего ценного. Напротив, пришельцы, мол, зачастую грабили местное население и ввергали его в кровопролитные братоубийственные столкновения на религиозной почве. Однако многочисленные свидетельства современников описываемых событий (и европейцев, и японцев) говорят об ином.
На самом деле японцам удалось воспринять от европейцев очень многое. Так или иначе, европейцы были носителями не только совершенно незнакомой, но и высокой культуры. К тому же Японию «открывали» не только своекорыстные купцы и фанатичные иезуиты, но и незаурядные личности вроде талантливого учёного Морейры, в течение двух лет (1590–1592) исследовавшего Японские острова и впервые составившего точную географическую карту Японии и Северо-Восточной Азии.
Соприкосновение с чужой культурой отразилось в произведениях японской литературы. Остановимся для начала на кратком анализе особо примечательной, на наш взгляд, повести о христианах и христианстве в Японии «Кириситан-моногатари», написанной в 1639 г. Дата создания и тенденциозный характер данного произведения ясно указывают на то, что анонимный японский автор (или авторы, поскольку разные части повести написаны в резко отличающейся друг от друга манере) выполнял социальный заказ. Ведь 1639 год – время окончательного изгнания европейцев из Японии. Поэтому основной задачей повести является дискредитация христианства и его последователей всеми доступными средствами.
Сначала автор приглашает читателей посмеяться над христианами и дает намеренно искаженный портрет типичного христианина (в качестве такового выступает португальский монах Батерен), подчёркивая нелепость его поведения: «Из корабля появилось неизвестное существо, сходное по виду с человеком, но выглядящее, однако, гораздо более похожим на тэнгу.[111 - Существо, напоминающее домового; обладает чрезвычайно длинным носом.] После расспросов выяснилось, что это существо называлось Батерен. Длина его носа – вот первое, что привлекло внимание: нос был похож на морскую раковину, хотя и без наростов, присосавшуюся к его лицу. Его глаза были огромны, а внутри – жёлты. Голова маленькая, на руках и ногах – длинные когти. Он был высок и чёрен с ног до головы, лишь нос был красен. Его зубы превосходили по длине лошадиные, а волосы были мышиного цвета. На лбу – шрам от опрокинутой винной чаши. Его речи были вовсе непонятны, голос звучал пронзительно, как крик совы».[112 - Elison G. Deus Destroyed. The Image of Cristianity in Early Modern Japan. Cambrige (Mass.): Harvard Univ. Press, 1973. P. 321.]
Но автору повести недостаточно вызвать у читателей презрительную усмешку,[113 - Заметим, кстати, что повесть снабжена иллюстрациями, карикатурно изображающими христиан.] ему надо ещё и попугать их. Для этого он красочно изображает ужасные казни христиан, предостерегая своих соотечественников и грозя неизбежной расплатой всякому, кто осмелится стать христианином.
И наконец, дабы окончательно опорочить христианские идеи, создатель «Кириситан моногатари» описывает теологический диспут между иезуистским монахом-японцем по имени Фабиан[114 - Фабиан Фукан – очень интересная фигура христианского века в Японии и его жизнь заслуживает специального рассмотрения.] и буддийским монахом Хакуо Кодзи из секты Дзэн. Они приглашены вдовой одного из владетельных даймё, с тем чтобы в ходе спора установить единственно правильный путь спасения души этой набожной женщины. Первым слово предоставляется иезуиту. Из его уст мы слышим сначала сжатое изложение событий Ветхого Завета: историю сотворения мира, человека и человеческого грехопадения. Попутно Фабиан отмечает превосходство христианского Бога-творца, вечного, бессмертного и всемогущего, над буддийскими и синтоистскими божествами – Буддами, Бодхисаттвами и ками, являющимися по своей природе просто необычными воплощениями человеческих существ. «Великий Бодхисаттва Хатиман, – говорит иезуит, – на самом деле есть император Одзин, который был человеком».[115 - Elison G. Deus Destroyed. Р. 344.] «Всех неверующих грешников, – продолжает он, – ждут страшные муки ада, а идущие по пути добра христиане обязательно попадут в рай».[116 - Ibid.] Далее он коротко рассказывает евангельскую историю Иисуса Христа, рождённого непорочной девой Марией, чтобы искупить людские грехи. В заключение монах превозносит могущество огромной страны «южных варваров»,[117 - Яп. намбан – так называли иностранцев, явившихся с южной стороны.] по сравнению с которой все Японские острова – лишь крошечная песчинка. Он поясняет высокий и благородный смысл проповеднической деятельности посланцев этой страны, призванных просветить и спасти погрязший в заблуждении японский народ.
В спор вступает буддийский монах и задаёт своему противнику ряд вопросов-опровержений. Начнём с того, говорит он, что в самых древних буддийских книгах[118 - Имеются в виду «Кодзики» (Записи о деяниях древности) и «Нихонги» (Анналы Японии) – первые письменные памятники японского народа, появившиеся в VIII в. н. э.] нет никакого упоминания о всемогущем христианском Боге. Из них известно о совсем других богах. Но, предположим, христианский Бог всё-таки существует. Для чего этому Богу нужно было создавать человека? «Это была игра? Или, может быть, Господь почувствовал себя одиноким и сотворил человека, чтобы иметь товарища для бесед или просто шута? – иронизирует буддист. – Далее, если христианский Бог создал людей, то почему же тогда он не смог сразу утвердить своё единое истинное учение среди всего человечества, и его бедные апологеты-миссионеры вынуждены преодолевать громадные расстояния, избегать многих опасностей лишь для того, чтобы распространить это учение на столь маленьком клочке Земли, как Япония? По поводу же Иисуса Христа можно только удивляться, что объектом поклонения выступает слабый, убогий, беспомощный человек, не сумевший воспротивиться истязаниям и распятый на кресте. И может быть, Христос действительно заслужил такое обращение, будучи сыном Бога, создавшего по своей прихоти людей и заставившего их страдать в этом несовершенном мире? Вообще, христианский Бог кажется мне дьяволом»,[119 - Elison G. Deus Destroyed. Р. 347.] – заключает буддийский монах и разражается грубой бранью: «Выгоним святую Марию отсюда! Она дала жизнь невоспитанной безотцовщине. Я бы побил её ногами!».[120 - Ibid. P. 348.]
Затем этот монах популярно излагает буддийское учение и завоёвывает расположение вдовы, признавшей истинность его аргументов. Итак, торжествует буддизм. Вот она – настоящая истина, настоящая вера наших предков, резюмирует «Кириситан моногатари», апеллируя к патриотическим чувствам читателей-японцев.
Однако попробуем посмотреть на всю эту антихристианскую апологетику трезвыми глазами незаинтересованного читателя. Начнём с внешнего вида христианина. Действительно, облик изображаемого в повести Батерена смешон и нелеп. Причем нелеп до абсурда – только никогда не видевший европейцев и чересчур наивный человек сможет поверить в то, что они таковы на самом деле. Кроме того, если христианин, этакое чудище, удостоился специального столь подробного описания, то значит он у автора вызывал несомненный интерес.
Что касается изображения страшных казней последователей Христа, то, хоть создатель повести и считает эти казни справедливыми, он в то же время признаёт необычайную стойкость и мужество христиан, готовых за веру пойти на костёр или быть распятыми. Мало того, он свидетельствует, что после казней люди растаскивают кусочки крестов на амулеты, веруя в их чудодейственную силу. Так в повести невольно констатируется вера населения в могущество христианства.
Что касается попытки теологического развенчания христианства на примере диспута Фабиана с буддийским монахом, то здесь важно заметить, что всякую религиозную догматику можно условно разделить на две части. Первая – это сакральные «истины веры», находящиеся на недосягаемой для разума высоте и принимаемые поэтому без доказательств. Вторая – часто выступающие объектом философских спекуляций теологов так называемые истины разума, якобы доступные определённому рациональному обоснованию и пониманию. Но даже христианские философы прекрасно сознают, что истины веры в отличие от «доказуемых» истин разума, не стоит подвергать интеллектуальному анализу, дабы не дискредитировать их.[121 - См. произведения Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского, а также современных неотомистов.] Естественно, любая, даже самая изощренная попытка рационально доказать истинность какой бы то ни было религии обречена в конечном счёте на провал.
Данное обстоятельство часто берется на вооружение не только атеистами, но и теологами в случае необходимости эффективной критики чуждой им религиозной системы. Аналогичную ситуацию демонстрирует диспут в «Кириситан моногатари». Некоторые критические аргументы буддийского монаха в отношении христианских истин веры вполне резонны.[122 - Мы имеем в виду не их форму, а смысл.] Но всё дело в том, что эти же аргументы с равным успехом могут быть отнесены и к самому буддизму, в котором тоже присутствуют недоказуемые рационально истины веры. Правда, христианину не отводится места для подобной критики буддизма, тогда как буддисту дана полная свобода поливать грязью христианство и издеваться над ним. К тому же буддист – в расчете на симпатии читателя – постоянно подчеркивает свои патриотические чувства и свое преклонение перед верой предков. Буддист побеждает в споре только потому, что он должен победить по замыслу автора повести. «Кириситан моногатари» – наглядный пример пропагандистского сочинения, используемого властями с целью опорочить христианство.
Интерес японцев к христианству, помимо прочего, способствовал выдвижению из их числа незаурядных мыслителей религиозного толка. Однако вновь обращённым теологам приходилось преодолевать сопротивление некоторых иезуитских иерархов, ревниво оберегавших свой приоритет в вопросах веры, видящих в местном населении людей второго сорта, пассивную паству, «человеческий материал» для утверждения воли Господней и тем самым отталкивающих японцев от христианства. Таким религиозным снобом был, например, глава иезуитской миссии в Японии в 1570–1581 гг. Франсиско Кабрал.[123 - Среди миссионеров были и более дальновидные руководители, такие как о. Валиньяно, который в отличие от Кабрала хорошо относился к японским неофитам. В тщательном изучении культуры Японии, учете её специфики, благожелательном отношении к её народу он видел залог успешной проповеднической работы.] Убежденный в никчемности язычников-азиатов лишь на том основании, что их культурные и религиозные традиции были непривычны и отличны от европейских, Кабрал стремился всячески ограничивать функции японских христиан в церковной деятельности. Он смотрел свысока на японцев, сдерживал их инициативу, не давая продвигаться по ступеням иезуитской иерархии; препятствовал изучению латыни и португальского языка, сохраняя таким образом языковой барьер между высшими (европейцы) и низшими (японцы) чинами иезуитов. Вот почему многие христиане-японцы отчасти из-за колебаний официальной политики японских властей, отчасти из-за обид постоянно уязвлённого иезуитами самолюбия предавали христианство. Показательна в этом отношении судьба одарённого японского теолога Фабиана Фукана, получившего известность сначала в качестве апологета христианства в Японии, а затем в качестве его ярого врага.[124 - Фуканом написаны про- и антихристианские работы: «Мётэй мондо» (Диалог о чудесной истине) и «Ха Дайусу» (Против Бога). Сам он выведен поборником христианства в книгах: «Ха ясо» (Против иезуитов) Хаяси Радзана; «Кириситан моногатари» (Повесть о христианстве); «Намбандзи кохайки» (Взлёт и падение храма южных варваров). Существует версия, что в той же «Кириситан моногатари» позднейшие взгляды Фукана изложены устами дзэнского монаха Хакуо Кодзи – противника христианства. Знаменитый японский пистель Акутагава Рюноскэ также сделал Фукана героем одного из своих рассказов.]
Как свидетельствуют отчёты португальских миссионеров, Фабиан Фукан родился в 1565 г. До своего крещения (предположительно в 1586 г.) он был дзэнским монахом-буддистом, что подтверждается и содержанием его работ, демонстрирующих превосходную осведомлённость автора в буддийской догматике. Обратившись в христианскую веру, Фукан стал её горячим поклонником, выучил латынь. Он принимал участие в теологических дискуссиях с буддистами на стороне христиан и сочинял труды, прославлявшие учение Христа. В 1605 г. Фукан создаёт «Мётэй мондо» – прохристианское произведение, описывающее беседу двух монахинь, в ходе которой доказывается и восхваляется истинность христианства в противоположность буддизму, конфуцианству и синтоизму. Через год, в 1606 г., состоялся диспут между Фуканом и ставшим впоследствии очень известным неоконфуцианцем Хаяси Радзаном. Запись этого диспута Хаяси опубликовал под заглавием «Ха ясо» (Против иезуитов).