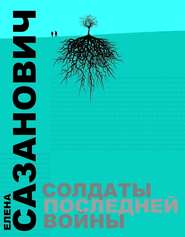По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Всё хоккей
Автор
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зачем? – в ее глазах я уловил подобие страха.
Только я мог ответить на этот вопрос правду. Но я ответил, конечно, другое.
– Вдруг мы станем соседями?
Этим вечером я сидел один в совершенно пустой квартире. С совершенно пустой головой. Иногда ловя себя на мысли, что хочется выпить. Но эту мысль я силой гнал от себя. Я еще верил, что против жизни Смирнова найдутся такие доказательства, убеждающие, что жить ему дальше не имело никакого смысла.
Я понимал, что долго скрываться в этой никому не известной квартире не получится. Она была записана на меня, и рано или поздно ее легко вычислят. К тому же газеты уже вопили о моем таинственном исчезновении. Да и в спорткомитете пора было объявиться. Хотя выходить на лед у меня не было ни сил, ни желания. Мне нужно было время хорошенько подумать и просто придти в себя.
Поэтому я позвонил Лехе Ветрякову и сообщил, что мне нужен месяц, чтобы восстановить силы. Поэтому я срочно уезжаю на отдых за границу. Куда именно я не сказал, Лехе это было знать необязательно.
– Понимаю, – хохотнул он. – Сбегаешь от всех? Месяц, конечно, вполне достаточный срок, чтобы все устаканилось. А по приезду никто из борзых репортеришек и не вспомнит об этой гнусной истории. Надеешься, что вновь звезда Виталия Белых засверкает на спортивном небосклоне? И в блестящих журналах вновь появится сияющая физиономия хоккеиста-аса, а не мученика с рожей Раскольникова? Кстати, лучше бы ты попал в какую-нибудь привредную старушку-процентщицу. А то в спорткомитете и так затылок чешут по поводу этого сомнительного матча. Да и завистников хватает, сам понимаешь, и охотников побыстрее занять твое местечко. А тут ты еще со своим отпуском. Я и сам тебе это советовал. А вот теперь… Не знаю, Талька, не знаю. Но думаю не вовремя.
– А мне плевать! – сквозь зубы процедил я. – Чтобы занять мое место, зависти и охоты мало. Тут нужно гораздо большее.
– Ну и хорошо, что плевать. Значит, встаешь на ноги. Кстати, меня тут бомбит твоя прекрасная Диана. Что ей передать? Девушка переживает.
– Я ей сам позвоню. Хотя нет, передай, что через месяц я буду у ее ног.
– Месяц разлуки для такой девушки – слишком много. Как, кстати, и для команды. Боюсь, этот месяц будет лишним для твоей карьеры.
– Знаешь, Леха, мне все равно. Так что я выбираю этот месяц.
Я бросил трубку и облегченно вздохнул. Вот и все. Я хотя бы на месяц могу скрыться от всех неприятностей. И от людей, которые мне о них не дают забыть.
Все это напомнило детство, когда я попадал в неприятную ситуацию. Тогда я обязательно заболевал недельки на две. С наслаждением валялся в постели и начисто забывал о всех невзгодах. А когда «выздоравливал», они оказывались уже в прошлом, так что вспоминать о них не имело смысла.
Сейчас я и впрямь подумывал на время смыться за границу, послать всех к черту и отключить свою память. Может это и правда, что от себя сбежать нельзя, но от своей памяти-то можно. Просто не думать, и все. Это же так просто.
Но ни за границу, ни от своей памяти сбежать мне так и не удалось. Вечером раздался телефонный звонок, и я вздрогнул. Никто не знал этого места. Я некоторое время раздумывал, брать ли трубку. Звонок настойчиво и монотонно продолжал трезвонить. «А, все равно смываюсь из города», – решил я и поднял трубку.
– Виталий?
Слава Богу, незнакомый голос. Может, ошиблись?
– Вас беспокоит Надя… Надежда.
Какая еще Надежда? Надежду я уже почти потерял.
– Надежда Смирнова, – ответил голос моим мыслям.
Я напрягся. Черт! Ну, конечно, в благородном порыве я же дал ей свой телефон.
– Слушаю вас, – от неловкости я ответил довольно резко.
– Извините, я, наверное, не вовремя. Просто вы говорили… Что может еще зайдете. Вы так заинтересовались работами моего мужа. И я тут… В общем разбираю его записи, черновики. Я думала вы мне посоветуете. Просто его близкий друг попросил просмотреть его труды. И я думала вы мне посоветуете…
– Конечно! – взволнованно ответил я. – Пожалуйста, никуда не отлучайтесь и без меня ничего не предпринимайте. Буду у вас через сорок минут.
Ровно через сорок минут она открывала мне дверь. Как и положено в черном платье. Серые волосы были собраны в пучок, перевязанный черной лентой. Я словно увидел ее впервые. Я не знаю, с какого раза можно было запомнить ее лицо, ее голос. Но не со второго – это уж точно. Настолько весь ее облик был неприметен, бесцветен, что если бы меня под пытками выспрашивали ее приметы, я бы все равно ничего не сказал. Какой нос? Длинный, короткий? Обычный, средний. Какие губы? Большие, маленькие? Обычные, средние. Лоб? Высокий, низкий? Обычный, средний. Лицо, круглое, вытянутое? Самое обычное. Глаза – карие, голубые? Между карими и голубыми. А волосы ни светлые, ни темные, а просто серые… Вот и весь человек. Я не знаю, какой мужчина мог ее полюбить, но, во всяком случае, я бы никогда. Хотя она была ни уродливой, ни красивой. Она была просто никакой. И как можно полюбить ничто?
– Проходите, вот сюда, – она широко распахнула дверь комнаты. – Это его кабинет. А я пока приготовлю кофе. Или чай?
– Кофе. С молоком, пожалуйста.
Она притворила дверь кабинета, и я остался один в комнате человека, которого убил. Я зябко повел плечами. И огляделся.
Типичная комната ученого. Все стены заставлены стеллажами с толстыми книгами, из которых я наверняка не прочитал ни одной. Письменный стол, заваленный исписанными бумагами. В углу старомодный зеленый торшер. Что я здесь делаю? Это настолько далеко от моего реального, благополучного мира. Редкие пробелы на стенах были увешаны репродукциями живописных портретов. По всей видимости, это были писатели и ученые. Я узнал только Пушкина.
Ближе к окну висел плакат. Я приблизился, чтобы получше его разглядеть и замер на месте. На плакате был изображен я. Во всей своей красе – в хоккейной форме. Я застыл в броске по воротам противника, широко размахнувшись клюшкой. Казалось, вот-вот я сделаю щелчок, и шайба улетит в неизвестность. На этом плакате было запечатлено то замечательное время, когда ни я, ни Смирнов еще не знали в какую цель в конечном итоге она попадет. Я бессмысленным взглядом уставился в свой портрет, моя рука слегка прикоснулась к плакатной клюшке, словно бы сейчас я смог изменить ход событий, исправить роковую ошибку судьбы. Словно бы у меня были силы и возможность направить удар в другую сторону.
– Странно, что из всех вещей в кабинете, вас заинтересовал лишь этот плакат.
От неожиданности я вздрогнул, не заметив, как вошла Смирнова. Я резко убрал руку с плаката. И повернулся к ней лицом, заслоняя свое бумажное изображение. И пробурчал что-то невнятное.
– Ну, в общем… Удивительно, что у такого человека… В общем ученого. И вдруг этот плакат…
– А я совсем про него забыла. Вернее, так привыкла, что не обращала внимания. И вот вы напомнили.
Смирнова попыталась отодвинуть меня в сторону, пробираясь вплотную к плакату.
– Его следует снять. Вы меня понимаете.
Не дав ей рассмотреть свое сияющее изображение на плакате, я резко сорвал его со стены.
– Я вас понимаю. Я вас очень хорошо понимаю, – я поспешно, почти лихорадочно рвал плакат на куски. Они плавно опускались на пол. Моя рваная на две части улыбка, мой рваный нос, рваные глаза и рваное тело. Словно меня линчевали. И палачом являлся никто иной, как я сам.
Смирнова подняла с пола часть моего лица и бессмысленно вертела ее в руках.
– Я даже не знала, кто тут сфотографирован. Но я знаю наверняка, что его любимый хоккеист. Он мог позволить себе повесить в кабинете только изображение личности, которую он высоко ценил. А вы случайно не узнали, кто это был на плакате?
Я пожал плечами.
– Я плохо разбираюсь в хоккее.
– А вы мне так и не сказали, чем занимаетесь по жизни.
– Не сказал? – я изобразил удивление. – Да, пожалуй. Ну, в общем… В общем я вольный художник.
Я ляпнул первое, что пришло в голову.
– Художник? Это слово многое подразумевает. Или вы в буквальном слове художник?
Нет, живописцем изобразить себя не получится. Еще не хватало, чтобы она попросила показать картины. И музыкант из меня не выйдет. Вдруг она попросит сыграть. Остается…
– В общем, журналист. Пописываю статейки то тут, то там. Как получится, – назвал я профессию более мне знакомую из всех творческих.
– Журналист? – Смирнова насторожилась. – Может быть, вы не случайно…
Только я мог ответить на этот вопрос правду. Но я ответил, конечно, другое.
– Вдруг мы станем соседями?
Этим вечером я сидел один в совершенно пустой квартире. С совершенно пустой головой. Иногда ловя себя на мысли, что хочется выпить. Но эту мысль я силой гнал от себя. Я еще верил, что против жизни Смирнова найдутся такие доказательства, убеждающие, что жить ему дальше не имело никакого смысла.
Я понимал, что долго скрываться в этой никому не известной квартире не получится. Она была записана на меня, и рано или поздно ее легко вычислят. К тому же газеты уже вопили о моем таинственном исчезновении. Да и в спорткомитете пора было объявиться. Хотя выходить на лед у меня не было ни сил, ни желания. Мне нужно было время хорошенько подумать и просто придти в себя.
Поэтому я позвонил Лехе Ветрякову и сообщил, что мне нужен месяц, чтобы восстановить силы. Поэтому я срочно уезжаю на отдых за границу. Куда именно я не сказал, Лехе это было знать необязательно.
– Понимаю, – хохотнул он. – Сбегаешь от всех? Месяц, конечно, вполне достаточный срок, чтобы все устаканилось. А по приезду никто из борзых репортеришек и не вспомнит об этой гнусной истории. Надеешься, что вновь звезда Виталия Белых засверкает на спортивном небосклоне? И в блестящих журналах вновь появится сияющая физиономия хоккеиста-аса, а не мученика с рожей Раскольникова? Кстати, лучше бы ты попал в какую-нибудь привредную старушку-процентщицу. А то в спорткомитете и так затылок чешут по поводу этого сомнительного матча. Да и завистников хватает, сам понимаешь, и охотников побыстрее занять твое местечко. А тут ты еще со своим отпуском. Я и сам тебе это советовал. А вот теперь… Не знаю, Талька, не знаю. Но думаю не вовремя.
– А мне плевать! – сквозь зубы процедил я. – Чтобы занять мое место, зависти и охоты мало. Тут нужно гораздо большее.
– Ну и хорошо, что плевать. Значит, встаешь на ноги. Кстати, меня тут бомбит твоя прекрасная Диана. Что ей передать? Девушка переживает.
– Я ей сам позвоню. Хотя нет, передай, что через месяц я буду у ее ног.
– Месяц разлуки для такой девушки – слишком много. Как, кстати, и для команды. Боюсь, этот месяц будет лишним для твоей карьеры.
– Знаешь, Леха, мне все равно. Так что я выбираю этот месяц.
Я бросил трубку и облегченно вздохнул. Вот и все. Я хотя бы на месяц могу скрыться от всех неприятностей. И от людей, которые мне о них не дают забыть.
Все это напомнило детство, когда я попадал в неприятную ситуацию. Тогда я обязательно заболевал недельки на две. С наслаждением валялся в постели и начисто забывал о всех невзгодах. А когда «выздоравливал», они оказывались уже в прошлом, так что вспоминать о них не имело смысла.
Сейчас я и впрямь подумывал на время смыться за границу, послать всех к черту и отключить свою память. Может это и правда, что от себя сбежать нельзя, но от своей памяти-то можно. Просто не думать, и все. Это же так просто.
Но ни за границу, ни от своей памяти сбежать мне так и не удалось. Вечером раздался телефонный звонок, и я вздрогнул. Никто не знал этого места. Я некоторое время раздумывал, брать ли трубку. Звонок настойчиво и монотонно продолжал трезвонить. «А, все равно смываюсь из города», – решил я и поднял трубку.
– Виталий?
Слава Богу, незнакомый голос. Может, ошиблись?
– Вас беспокоит Надя… Надежда.
Какая еще Надежда? Надежду я уже почти потерял.
– Надежда Смирнова, – ответил голос моим мыслям.
Я напрягся. Черт! Ну, конечно, в благородном порыве я же дал ей свой телефон.
– Слушаю вас, – от неловкости я ответил довольно резко.
– Извините, я, наверное, не вовремя. Просто вы говорили… Что может еще зайдете. Вы так заинтересовались работами моего мужа. И я тут… В общем разбираю его записи, черновики. Я думала вы мне посоветуете. Просто его близкий друг попросил просмотреть его труды. И я думала вы мне посоветуете…
– Конечно! – взволнованно ответил я. – Пожалуйста, никуда не отлучайтесь и без меня ничего не предпринимайте. Буду у вас через сорок минут.
Ровно через сорок минут она открывала мне дверь. Как и положено в черном платье. Серые волосы были собраны в пучок, перевязанный черной лентой. Я словно увидел ее впервые. Я не знаю, с какого раза можно было запомнить ее лицо, ее голос. Но не со второго – это уж точно. Настолько весь ее облик был неприметен, бесцветен, что если бы меня под пытками выспрашивали ее приметы, я бы все равно ничего не сказал. Какой нос? Длинный, короткий? Обычный, средний. Какие губы? Большие, маленькие? Обычные, средние. Лоб? Высокий, низкий? Обычный, средний. Лицо, круглое, вытянутое? Самое обычное. Глаза – карие, голубые? Между карими и голубыми. А волосы ни светлые, ни темные, а просто серые… Вот и весь человек. Я не знаю, какой мужчина мог ее полюбить, но, во всяком случае, я бы никогда. Хотя она была ни уродливой, ни красивой. Она была просто никакой. И как можно полюбить ничто?
– Проходите, вот сюда, – она широко распахнула дверь комнаты. – Это его кабинет. А я пока приготовлю кофе. Или чай?
– Кофе. С молоком, пожалуйста.
Она притворила дверь кабинета, и я остался один в комнате человека, которого убил. Я зябко повел плечами. И огляделся.
Типичная комната ученого. Все стены заставлены стеллажами с толстыми книгами, из которых я наверняка не прочитал ни одной. Письменный стол, заваленный исписанными бумагами. В углу старомодный зеленый торшер. Что я здесь делаю? Это настолько далеко от моего реального, благополучного мира. Редкие пробелы на стенах были увешаны репродукциями живописных портретов. По всей видимости, это были писатели и ученые. Я узнал только Пушкина.
Ближе к окну висел плакат. Я приблизился, чтобы получше его разглядеть и замер на месте. На плакате был изображен я. Во всей своей красе – в хоккейной форме. Я застыл в броске по воротам противника, широко размахнувшись клюшкой. Казалось, вот-вот я сделаю щелчок, и шайба улетит в неизвестность. На этом плакате было запечатлено то замечательное время, когда ни я, ни Смирнов еще не знали в какую цель в конечном итоге она попадет. Я бессмысленным взглядом уставился в свой портрет, моя рука слегка прикоснулась к плакатной клюшке, словно бы сейчас я смог изменить ход событий, исправить роковую ошибку судьбы. Словно бы у меня были силы и возможность направить удар в другую сторону.
– Странно, что из всех вещей в кабинете, вас заинтересовал лишь этот плакат.
От неожиданности я вздрогнул, не заметив, как вошла Смирнова. Я резко убрал руку с плаката. И повернулся к ней лицом, заслоняя свое бумажное изображение. И пробурчал что-то невнятное.
– Ну, в общем… Удивительно, что у такого человека… В общем ученого. И вдруг этот плакат…
– А я совсем про него забыла. Вернее, так привыкла, что не обращала внимания. И вот вы напомнили.
Смирнова попыталась отодвинуть меня в сторону, пробираясь вплотную к плакату.
– Его следует снять. Вы меня понимаете.
Не дав ей рассмотреть свое сияющее изображение на плакате, я резко сорвал его со стены.
– Я вас понимаю. Я вас очень хорошо понимаю, – я поспешно, почти лихорадочно рвал плакат на куски. Они плавно опускались на пол. Моя рваная на две части улыбка, мой рваный нос, рваные глаза и рваное тело. Словно меня линчевали. И палачом являлся никто иной, как я сам.
Смирнова подняла с пола часть моего лица и бессмысленно вертела ее в руках.
– Я даже не знала, кто тут сфотографирован. Но я знаю наверняка, что его любимый хоккеист. Он мог позволить себе повесить в кабинете только изображение личности, которую он высоко ценил. А вы случайно не узнали, кто это был на плакате?
Я пожал плечами.
– Я плохо разбираюсь в хоккее.
– А вы мне так и не сказали, чем занимаетесь по жизни.
– Не сказал? – я изобразил удивление. – Да, пожалуй. Ну, в общем… В общем я вольный художник.
Я ляпнул первое, что пришло в голову.
– Художник? Это слово многое подразумевает. Или вы в буквальном слове художник?
Нет, живописцем изобразить себя не получится. Еще не хватало, чтобы она попросила показать картины. И музыкант из меня не выйдет. Вдруг она попросит сыграть. Остается…
– В общем, журналист. Пописываю статейки то тут, то там. Как получится, – назвал я профессию более мне знакомую из всех творческих.
– Журналист? – Смирнова насторожилась. – Может быть, вы не случайно…