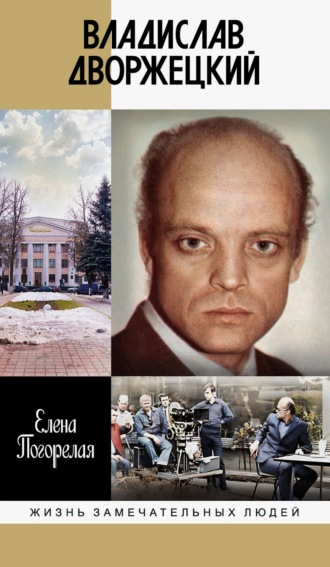
Владислав Дворжецкий. Чужой человек
На следующий же день Вацлав Дворжецкий «был принят в омский ТЮЗ актером с окладом в 405 рублей»[12].
Сегодня кажется невероятным, что вчерашнего политзаключенного, осужденного по статье 58.10 за групповую (!) антисоветскую деятельность, в принципе могли взять на работу в театр. Но здесь нужно помнить, что каторжная Сибирь до поры до времени была фактически островком свободы в Советской России. Дальше Сибири не сошлют, а Сибирь – родной дом, поговаривали омичи. К ссыльным и спецпоселенцам тут притерпелись: по воспоминаниям старожилов, в 1930-е «в городе были те, кто сидел, и те, кто их охранял. Больше здесь никого не было, не было и никаких театральных традиций. Создание омского театра началось с ТЮЗа и Вацлава Дворжецкого. Он был колоссально начитан, эрудирован, у него было чувство вкуса, стиля и умение организовать людей. И вот это – самое главное, потому что в городе без театральных традиций создать театр было крайне сложно, но он смог»[13].
Он смог создать и семью. Юную балерину-петербурженку, оказавшуюся в Омске, видимо, не от хорошей жизни (о корнях Владислава Дворжецкого с материнской стороны известно мало, но, как бы то ни было, «бывшим» оставаться в Ленинграде в 1930-е сильно не рекомендовалось), биография молодого актера не испугала, и в том же 1937 году они расписались.
Жили, как и все в то время, бедно, страстно, увлеченно, взахлеб. Много работали: жена вела балетные мастерские при ТЮЗе и при Доме пионеров, руководила нехитрыми танцевальными постановками в детских спектаклях. Муж был занят во всем тюзовском репертуаре – от «Хижины дяди Тома» до «Недоросля», от «Снежной королевы» до «Парня из нашего города», а кроме того, выезжал на гастроли в область, участвовал в предвыборной агитации, проводил праздники и различные массовые мероприятия. Около 1940 года согласился поработать в Таганрогском драматическом театре, еще с XIX века славившемся своей оппозиционностью: сто лет назад, в декабре 1845-го, поставил запрещенное цензурой грибоедовское «Горе от ума», в 1895-м – толстовскую, и тоже запрещенную, «Власть тьмы», а в середине XX века не побоялся пригласить на работу бывшего заключенного. Там – южное море, там – перспектива когда-нибудь выбраться из сурового Омска и перевезти семью ближе к теплу, к фруктам, ближе к родителям… Таисия с маленьким сыном ездили к Вацлаву в Таганрог. Правда, однажды поездка чуть было не обернулась бедой: ребенок в пути тяжело заболел, и к разгулявшимся на улице подросткам Вацлав вышел со словами: не шумите, у нас здесь умирает маленький мальчик.
Так лейтмотив то ли хрупкости жизни, то ли близости смерти в судьбе Владислава Дворжецкого обнаружил себя в первый раз.
Но тогда, в Таганроге, всё обошлось.
…Я ушел от пеленок и сосок.Поживал – не забыт, не заброшен.И дразнили меня «недоносок»,хоть и был я нормально доношен…Поглощенный наконец-то складывающейся карьерой (и наученный горьким опытом: не влезай – убьет), Вацлав политикой подчеркнуто не интересуется. Да и зачем политика, если можно – играть! Сценические фотографии тех лет демонстрируют весь спектр преображений и перевоплощений артиста: от чопорного Советника в «Снежной королеве» Х. К. Андерсена – до мятежного Джорджа в «Хижине дяди Тома» Г. Бичер-Стоу; от бравого Севастьянова из «Парня из нашего города» К. Симонова – до интеллигентного Здобного в «Весне в Москве» А. Гусева. А как много еще не сыгранных ролей, нереализованных планов, насыщенных репетиций и готовящихся постановок!
Между тем в 1940-м начинается Финская война. Таганрог с его оборонными предприятиями объявляют режимным городом, и осужденный по 58-й статье Дворжецкий теряет право в нем находиться:
Вызвали в милицию, перечеркнули паспорт и приказали <..> выехать из города в двадцать четыре часа. «Погрелся»… Ну что ж, спасибо, что не посадили…[14]
В Омске, куда он спешно возвращается с юга, впрочем, тоже не все гладко: ввиду начала войны усиливается идеологический прессинг, театры увеличивают размах агитационной работы. Да и омский ТЮЗ после Таганрогского драматического, славящегося своими традициями, Вацлаву Дворжецкому уже несколько тесен…
Выручила новый художественный руководитель Омского областного драматического театра, сменившая на этом посту обвиненного в формализме В. Торского, приятеля и соперника Вацлава, – Лина Самборская, выпускница драматической школы М. Г. Савиной, равно блистательно игравшая дореволюционного Островского и горьковскую пролетарскую «Мать». С ее легкой руки Вацлав, уже обладавший весомым актерским и режиссерским опытом и багажом (в начале 1941 года в ТЮЗе им были поставлены «Романтики» Э. Ростана и «Снежная королева» Х. К. Андерсена), начал играть в Театре драмы на улице Ленина, 8А.
Из домика в парке – несколько минут быстрым шагом вверх, к бывшей Соборной площади, а там – «не театр, а довольно объемная шкатулка… в стиле классицизма – с башенками, затейливыми окнами, спаренными полуколоннами»[15]. Здание театра в начале XX века было построено на средства Городской думы и самих горожан и с тех пор радовало глаз и омичей и приезжих. Просторное, трехэтажное, на крыше – статуя «Крылатого гения» авторства чешского скульптура В. Винклера, воспитанника Пражской академии художеств… Восемнадцать лет парил Крылатый гений над Омском, но Вацлав Дворжецкий его уже не застал: в 1933-м скульптуру демонтировали по причине несоответствия духу советского времени[16] – нечего советскому человеку парить в небесах!
Впрочем, играть дают – и на том спасибо. В расчете на Дворжецкого в театре готовится премьера искрометной комедии О. Голдсмита «Ночь ошибок», Вацлав играет там главную роль. Да и все его роли в основном характерные, костюмные, остро-сценические, и тому же искусству перевоплощения Дворжецкий учит своих учеников в драматическом кружке при Доме пионеров. Вместе с женой они готовят юных артистов и учащихся танцевального кружка к празднику: 22 июня в новом Центральном парке культуры и отдыха, что на набережной Иртыша, должно состояться массовое гулянье в честь окончания весенних посевных работ. Люди уже с утра собираются праздновать – послушать оркестр, потанцевать, увидеть любимых омских артистов: за несколько лет в городе образовалась целая группа любителей-театралов, ходивших в «драму» и ТЮЗ «на Дворжецкого» – уж он-то, бессменный участник всех омских массовых мероприятий, наверняка будет в этот день в ЦПКиО! Таисия Рэй тоже готовится – выступать либо вывести на сцену учениц-танцовщиц, а двухлетнего Владика в парке будет выгуливать бабушка…
Но, как известно, Россия настолько большая страна, что, когда в Омске готовятся к празднику, в столице уже звучит сообщение от Советского Информбюро.
4
Не боялась сирены соседка —И привыкла к ней мать понемногу…Лето и осень 1941 года. В Омск из Центральной России тянутся беженцы. Город наводнен слухами и новостями. Маленький железнодорожный вокзал переполнен: на путях теснятся военно-санитарные поезда, эшелоны с оборудованием эвакуированных заводов, встречные эшелоны с отправляющимися на фронт новобранцами. Среди эвакуированных из Москвы предприятий – вот чудо-то! – театральный вагон: московские артисты в легких костюмах, с парой наспех собранных чемоданов оглядываются на перроне, ожидают распределения по городским коммуналкам. В октябре, в результате одного из первых немецких налетов на Москву, бомба попала в арбатское здание Вахтанговского театра. Артисты были спешно отправлены в эвакуацию в Омск – как они тогда думали, на неделю-другую, ну ладно, на месяц: война ненадолго! Однако соседство вахтанговской труппы и труппы Омского областного театра в том самом здании под сенью невидимого Крылатого гения продлилось до 1943 года.
В городе холод и голод, «скудный паек, пустой рынок», немец идет к Москве, «а в театре, – говорит Вацлав Дворжецкий, – чудо как хорошо»:
Занят во всем репертуаре: «Мой сын», «Фландрия», «Уриель Акоста», «Кутузов», «Ночь ошибок», «Парень из нашего города», «Весна в Москве». Новые прекрасные партнеры – Вахтеров, Ячницкий, Лукьянов. Вахтанговский театр – в нашем здании. Режиссеры – Симонов, Дикий, Охлопков. Спектакли идут через день: у них «Кутузов» – у нас «Кутузов», у них премьера «Много шуму из ничего» – у нас премьера «Ночь ошибок». И кружок самодеятельности, и дома дел полно. Моя жена – балетмейстер в театре и в Доме пионеров. Владику два года. Трудно, но интересно и хорошо было…[17]
И действительно, сами вахтанговцы вспоминали годы омской эвакуации как время подлинного расцвета театра. Зритель им попался благодарный и увлеченный (и через десятилетия после отъезда Вахтанговского театра омские старожилы говорили об увиденных спектаклях с восторгом), а тесное взаимодействие с городской труппой и режиссерами подталкивало к находкам и экспериментам. Публика валом валила на москвичей, спектакли показывали несколько раз в сутки: утром, днем, вечером и даже в полночь. Часто сбор с поздних спектаклей шел в фонд помощи семьям фронтовиков, на подарки бойцам Красной армии, в фонд обороны страны – все были только рады хотя бы такому участию в трудной работе тыла. Играли не только в театре. И омские артисты, и москвичи давали представления в госпиталях, на вокзале для отъезжающих, на призывных пунктах…
Естественно, в обстановке военного времени к неблагонадежным сотрудникам относились с особенным подозрением, и та же Самборская, сумевшая сберечь Омский драматический театр, его труппу и здание, в условиях работы с вахтанговцами[18] неоднократно предупреждала своего протеже Дворжецкого быть осторожнее. Тот только отмахивался. Он молод и полон сил, и до сих пор ему везло – так чего же бояться? Потом с запоздалым сожалением вспомнит: надо было крутиться. «Комбинировать», убегать… Надо было решиться на то, что грозило всей труппе: уехать из Омска в район, затеряться в окрестных театрах, по личному приглашению режиссера приезжать и играть, делать так, чтобы тебя не поймали… Может быть, и действительно не поймали бы: в сорок первом году до того ли им было, чтобы ловить? Выкинули из Омска – и ладно… Но Вацлав не стал ни бегать, ни «комбинировать», и его вскоре взяли, не догоняя.
Последние мирные семейные вечера. Уверенности в завтрашнем дне не было и не могло быть, земля ходила ходуном под ногами, но оттого еще сильнее хотелось урвать счастье сегодняшнего короткого дня. Вечерами в парковом домике Вацлав доставал фотоаппарат «Фотокор» и снимал жену: то в балетной пачке с тугим узлом на затылке, то в домашней одежде с распущенными волосами, то обнаженной («у нее была чудесная фигура, какая и должна быть у балерины, прошедшей школу Большого театра»). Эти снимки, вложенные в одну из книг (книг в доме было много, очень много!), найдут во время обыска перед вторым арестом. Над этими снимками будут, похохатывая и дымя папиросами, склоняться следователи в кабинете НКВД…
О том, как его во второй раз арестовали, пронзительнее всего написал сам Вацлав Дворжецкий в «лагерных» воспоминаниях:
Днем пришли. Трое. Я ребенка купал в тазике. Велели сесть на стул в стороне. Обыск. Мокрый мальчишка плачет.
– Разрешите ребенка одеть!
Пришла теща, унесла Владика на кухню. (Я увижу его только через пять лет.) При обыске разбросали все книги, забрали письма родителей и фотографии… жены. В обнаженном виде… Много было разных снимков, но эти, «неприличные», я хранил в книжке. Вот их и взяли. Я протестовал: «Вы не имеете права! Это личное, интимное, никого не касается!..» Потом следователь со своими помощниками разглядывал эти снимки, обменивался впечатлениями и циничными замечаниями… Я не мог дать ему по морде – был привязан к стулу. Только плакал от беспомощности. И помню это! Помню за все время, за все годы мук, пыток, боли – помню и не прощу! Не могу простить это оскорбление! Если меня били резиновым жгутом за то, что я произнес нерусское, непонятное им слово – «реабилитируют», – простить можно: они же неграмотные! А потом, они же не допускали непризнания вины! «Это клевета на органы! У нас зря не берут!» Поэтому, если заявить, что ни в чем не виноват, – готов уже и срок, и статья… Все это дико, жутко, больно…[19]
После эта действительно дикая, но, увы, обыденная для той поры сцена будет варьироваться в воспоминаниях Дворжецкого-старшего в многочисленных интервью с журналистами. Вместо «тазика» появится «ванночка» (позже Владислав педантично уточнит: «складная, как старые раскладушки, из розовой клеенки»), молчаливая теща, сразу, очевидно, сообразившая, что к чему, выйдет из кухни с ребенком и даст отцу попрощаться с ним. Тот успеет сказать: «Владинька, не плачь, я скоро вернусь», – и исчезнет на несколько лет… Лишь об одной детали Вацлав не будет упоминать в интервью – только напишет акмеистически точно (сказывается юношеская начитанность, сказывается и сценичность актерского, режиссерского взгляда на мир), «в мелких подробностях»:
Страшно во время следствия было только одно: окно за спиной следователя… Комната на пятом этаже. Стул, стол, следователь, а за спиной его большое окно. Вот там-то, за этим окном, вся мука моя и боль. Следователь не подозревал ни о чем, я лишил его этого удовольствия… Дело в том, что «серый дом» НКВД возвышался как раз напротив сада Дома пионеров. А в саду – домик, а в домике – окошко, а в окошке – свет… Я вижу – это мой дом! Это мой свет. Там Владик… Я его только что купал в тазике…
Господи!.. Я вынесу и эту пытку! Надо жить! Обязательно надо жить![20]
Если вдуматься: какой кинообраз! Окно в окно – следовательское, мертвое, и напротив – живое, мерцающее вечерним уютным светом… Впрочем, Вацлав не знал, что никакого уюта там уже не было. Вскоре после его ареста Таисию Рэй вместе с матерью и двухлетним ребенком как членов семьи заключенного выселят из счастливого паркового домика, и семья переедет в театральное общежитие в Газетном переулке, на набережной реки Омки, – в дом, который и сегодня знаком практически каждому омичу.
5
Вацлав Дворжецкий, вернувшись из заключения, в этот дом не попадет: ему дадут угол в другом общежитии, в бывшем особняке Кабалкина на улице 10-летия Октября, а вот Владислав проведет там едва ли не двадцать лет своей жизни и посвятит общежитию в Газетном пространное описание:
Дом двухэтажный. Одна половина каменная, другая – из дерева. Обе половины соединены аркой, под ней – ворота. Ворота большие, железные. Когда их закрывают, они скрипят, но закрывают их редко. Еще на них можно кататься. В каменную половину дома ведет мраморное крыльцо, под ним вход в подвал, в подвале – кочегарка. Если подняться по крыльцу, то попадешь в вестибюль, в углу которого будочка – там когда-то был телефон и сидел дежурный. Пол в вестибюле очень красивый: красный, в шашечку, и в каждом квадратике подобие цветка. Из вестибюля по мраморной лестнице можно попасть на второй этаж. Ее мрамор, зеленоватый, с вкраплениями белых кусочков, очень похож на срез колбасы с кусочками жира и от этого кажется скользким. Он и на самом деле скользкий: редко кто из жильцов не падал, спускаясь по этой лестнице. Перила у нее были деревянные, с медной решеткой из кованых листьев и завитушек…
На фасаде дома, над мраморным крыльцом, видны были буквы: «Гостиница Номера деловой двор». Над буквами окно. Не простое окно, а огромное, почти круглое окно… мы им очень гордились!
…В доме, и в каменной и в деревянной половине, жили люди, которые так или иначе имели отношение к театру, – это было общежитие артистов. Оно так называлось, но жили в нем и гримеры, и художники, и рабочие сцены, и даже кучер, который возил директрису театра Лину Семеновну[21]…
Интересно, кстати, сравнить стиль и манеру записей двух Дворжецких – отца и сына: там, где у Вацлава даже в восемьдесят с лишним лет – энергия и экспрессия, бьющая через край, у Владислава – сдержанность, полутона, пристальное, задумчивое внимание к деталям. Там, где у Вацлава – восклицательные знаки, у Владислава – многоточия. Так, где Вацлав заявит безапелляционно: играть, жить, играть! – Владислав только мимоходом обронит: «Зачем?»
Но о дневниках Владислава Дворжецкого, равно как и о его детских годах в общежитии в Газетном (бывшем Грязном: переименовали в 1920-е, когда там появилась редакция первой омской советской газеты) переулке, – чуть позже. Сначала – о последнем «большом этапе» Дворжецкого Вацлава, о его новом лагерном сроке (1941–1945).
Следствие, как он сам вспоминал, «не было таким жестоким, как когда-то. Даже „разговорчики“ допускались. Следователь „снисходил“ до того, что рассказывал о событиях на фронте, в частности о разгроме немцев под Москвой»[22]. Побоев, пыток, инсценировок расстрела, через которые Вацлав прошел в 1930-е, тоже не было; пожалуй, самым тяжелым – помимо уже упомянутого света в окошке отнятого счастливого домика – оказалась необходимость заслушивать показания друзей-актеров. «Все осуждали и оговаривали меня», – горько припоминал он. Ведущий дело сержант госбезопасности Заусайлов, при всей своей «лояльности» выдвинувший обширный список обвинений, как-то: антисоветская агитация, террористические намерения, клевета на государственный строй и, наконец, порнография, – требовал для подсудимого высшей меры наказания – расстрела. Но, к счастью, Особое совещание, на котором рассматривалось дело Дворжецкого-старшего, требование отклонило. Артист был приговорен к очередным пяти годам заключения в омских исправительно-трудовых (или, по А. Солженицыну, «истребительно-трудовых») лагерях.
Сначала – несколько месяцев на общих работах: копали глину, разгружали кирпич. Потом отправили как чертежника в мастерскую авиаконструктора А. Туполева: в недавно открывшийся на базе эвакуированных предприятий самолетостроительный завод № 166 требовались кадры, производство работало бесперебойно, самолеты тысячами отправлялись на фронт. А в октябре 1942 года наступила двадцатипятилетняя годовщина Октябрьской революции, и Вацлав вызвался подготовить программу к праздничному концерту в культурно-воспитательной части:
…подобрал исполнителей, составил программу и начал репетировать. <..> После нескольких удачных выступлений последовал приказ начальника управления «о создании центральной культбригады под руководством з/к Дворжецкого».
Нас совсем освободили от общих работ, выделили отдельный барак, выдали новое обмундирование, разрешили мне подбирать людей из всех новых этапов, составить репертуар и действовать.
И мы начали действовать. Пять. Десять. Двадцать пять человек! Я собрал актеров, музыкантов, литераторов, певцов, танцоров (мужчин и женщин, молодежь и пожилых) и, не хвалясь, скажу, завоевал и лагерь, и управление. Нас хвалили, поощряли, премировали и, конечно, нещадно эксплуатировали, посылали на «гастроли» во все лагеря и колонии Омского управления. А нам это не мешало. Мы были нужны – это главное! Везде с успехом выступали, нас везде ждали. Мне это доставляло радость, я видел, что наша деятельность облегчает жизнь людям в заключении.
Мы выступали в бараках, в цехах, на стр. площадках, в поле во время сельскохозяйственных работ, в клубах, на разводах, при выходе на работу и при возвращении людей с работы. Я все больше и больше влезал в организацию быта заключенных. Это они видели, чувствовали и ценили[23]…
Дошло до того, что Дворжецкий, в молодости увлекавшийся поэзией русского модернизма, начал писать для выступлений стихи. Сценический раёшник на актуальные темы, произносимый от лица героя-зэка, чем-то неуловимо напоминавшего фронтового Василия Теркина (вполне возможно, что о завоевавшей фронт поэме Твардовского Вацлав был наслышан – во всяком случае, жена регулярно передавала ему «с воли» новые книги, хотя свидания и были запрещены), с неизменным успехом встречался аудиторией. Неунывающий, остроумный свой брат-зэк по имени дядя Клим действительно стал для окружения Дворжецкого приятелем и заступником, за его приключениями следили, его «письма», которые Вацлав зачитывал со сцены лагерной КВЧ, приветствовали аплодисментами – и скоро, совсем скоро Дворжецкий сам сделался одним из главных лагерных «придурков», имевших влияние не только на заключенных, но и на вольных работников лагеря. Ему доверяли трудовую агитацию, позволяли заступаться за зэков и даже не возражали против того, чтобы «з/к дядя Клим» наставлял рабочие бригады на истинный путь:
Война замучила! Четыре года…Кончится война – будет свобода!Выходит – надо стараться:Помогать с фашистами драться.Кто как может, пусть поможет.Все годится, лишь бы Победы добиться!А я вот слыхал, что Петрова бригадаСчитает, что работать совсем не надо…И на кухне кантуются ребятаПо причине блата,И в хлеборезку тожеТолько свой устроиться можетИ своему же поможет!Иной научится по фене ботатьИ кричит: «Я не дурак!Все равно мне, где работать,Лишь бы не работать —Проживу и так!»А вот семеновцы из второй колонныВыгрузили цемента 44 тонны,И кирпича три вагона.Молодцы, вторая колонна!Поясним для читателей нового поколения: в слове «придурок» нет ничего оскорбительного – так в лагерях называли тех счастливчиков, кто ушел с общих работ или же умудрился на них не попасть. «Придурки», в том числе и лагерные артисты, и работники культурно-воспитательной части, – привилегированная каста заключенных; чище одетая, более сытая (хотя, конечно, говорить о сытости в Омском лагпункте военного времени не приходилось: как писал сам Дворжецкий, «хлеба по 200 граммов и баланда – вода и капуста. Пухли от голода…»), а самое главное – имеющая некоторую связь с волей. Впрочем, на воле в 1940-е было не многим сытнее и лучше, чем в лагере. Дворжецкий знал, что его сын и жена голодают, и мучился, что не может ничем им помочь. Разве вот сшить для Владика два костюма: «…матросский белый (брючки, френч с погонами, фуражка с крабом) и красноармейский (защитные бриджи, гимнастерка с погонами, пилотка со звездочкой, сапожки брезентовые и даже золотая звездочка героя). Нам шили униформу, материала было много, и портные с удовольствием выполнили мою просьбу…» «За зону» отцовский подарок рискнул передать сам начальник лагерной КВЧ, конечно, немало обязанный Вацлаву славой культурной бригады ЛП № 2 и некоторым преображением лагеря вообще[24].
Среди тех «вольняшек», кого Вацлав называет своими помощниками, помимо начальника КВЧ И. Кан-Когана фигурируют имена инспекторов культурно-воспитательного отдела лагпункта Софьи Тарсис и Марии Гусаровой. Последняя не только постоянно снабжала бригаду литературой, необходимой для подготовки спектаклей, не только заступалась за зэков перед начальством, но и выполняла их частые поручения и просьбы по связи с «волей». А ведь «нельзя забывать, что лагерный режим запрещал всякую связь вольнонаемных, в том числе и начальства, с заключенными по 58-й статье»[25]! Однако, несмотря на подобное строгое запрещение, обаяние руководителя Центральной культбригады, заключенного артиста Дворжецкого, было столь действенно, что одна из вольнонаемных работниц лагеря полюбила его.
Полюбила и даже – в 1946 году – родила ему дочь.
6
Собственно, именно эта лагерная история с неизвестной вольнонаемной (Вацлав нигде не называл ее имени и должности и после освобождения с ней практически не встречался, хотя деньги и вещи для дочери передавал регулярно) и стала причиной распавшегося брака Вацлава Дворжецкого с Таисией Рэй.
Скорее всего, жену подкосила не столько измена Дворжецкого, сколько внезапно осознанный резкий контраст между ее почти нищенской жизнью на воле и феноменальной «карьерой» мужа-заключенного в лагере. Но что же делать: Вацлав был, как сейчас бы сказали, подлинным «альфа», лидером, борцом, ему было свойственно выходить победителем из всех жизненных испытаний и, выходя из них, задавать высокую (иногда чрезмерно) планку всем, кто его окружал. Оттого-то, должно быть, Владиславу Дворжецкому, его старшему сыну, и приходилось непросто: он не был таким победителем – правда, не был и побежденным. Его амплуа скорее – человек, поневоле уступивший многократно превосходящей силе, но ею не покоренный; отсюда такое точное попадание в образы генерала Хлудова и капитана Немо, этих, как писала М. Цветаева, с которой Дворжецкий был косвенно связан через вахтанговцев, «вождей без дружин»… Однако вечное несоответствие отцовскому образу-идеалу всю жизнь задевало его, заставляя стремиться к недостижимому.
Да и только ли его одного?..
Рискнем предположить, что юная Таисия Рэй, с одной стороны, и полюбила в Вацлаве победителя: в 1937 году перед ней был вчерашний арестант, нищий, гонимый, но – гоноровый, блестящий, невероятно талантливый – настоящий герой! С другой стороны, в 1945-м из омской колонии она все же готовилась встречать зэка, затравленного и бесправного, а встретила всё того же блестящего виннера, проработавшего несколько лет заключения в театральной бригаде, пользующегося уважением лагерного начальства и любовью вольнонаемных сотрудников и сотрудниц. Получается, что на самом деле больше пострадал вовсе не он, а она!? У него – концерты, многочисленные выступления, лагерный оркестр, для участия в котором Вацлав выучился играть на домре, встречи с талантливейшими людьми, наконец, новый роман… У нее – грошовые службы, неотапливаемая комнатенка в Газетном, косые взгляды соседей, одиночество, нескончаемая тревога о муже, о сыне, о будущем. Могло ли ее утешить то, что Дворжецкий тосковал по жене, что, вспоминая о ней, читал по ночам арестантам в бараке «Принцессу Грезу» – читал так, что иные из них плакали?

