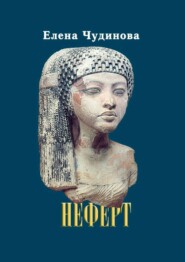По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Держатель Знака
Автор
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Евгению казалось, что за все это время брат словно и не повзрослел – только вытянулся… Господи, как же странно видеть на его плечах привычные погоны… ремни… шашку… шпоры на пыльных сапогах…
– Вереск… Хорошее имя для такой масти. Тэки[5 - Имеется в виду ахалтекинская порода.] вообще великолепные лошади. – И в голосе Сережи звучали какие-то совсем мальчишеские интонации. Все в нем было таким же, как раньше, даже жесты и черты, которых не помнил в нем Евгений, всплыли в памяти, как будто и не забывались никогда, – привычка резко вздергивать подбородок, обаяние чуть виноватой улыбки. – Хотя больше я люблю белых лошадей. Когда-нибудь у меня будет конь чистой арабской породы. После войны, конечно. И сбруя в восточном стиле – закажу по своему эскизу.
– Мой милый, ты – европеец с головы до пят, а твое представление о Востоке – эстетская стилизация.
– А это спорный вопрос, что именно понимать под европейцем. Но Востока я действительно не понимаю. Я люблю только Древний Египет. Женя, а ведь ты не очень рад меня видеть.
Евгений вздрогнул. Последняя Сережина фраза вернула его из воспоминаний, куда он незаметно для себя начал погружаться, – звуки Сережиного голоса как будто приближали, делали реальнее безумно далекое видение московской квартиры.
…Всегда полутемная, со слабым запахом маминых духов в воздухе; с ветками белоснежной сирени в хрустальных вазах на полированной глади рояля в начале лета; с белоснежными, как сирень, ледяными узорами на высоких окнах зимой, к которым в детстве можно было прикладывать нагретые пятаки и смотреть в круглый глазок на улицу; с потемневшим дубовым паркетом; с напольными часами в коридоре, за которыми прятался маленький Сережа, – московская квартира всегда была для Жени Ржевского ненавистной, любимой и ненавистной…
Все здесь было незыблемо: книги в кожаных переплетах, огромный письменный стол в папином кабинете, голубые с серебром обои в гостиной, картина с голубоватым туманным пейзажем Коро…
Этот мир казался Жене ненастоящим, странной изящной безделушкой, похожей на мамин японский веер… Было невозможно (да Женя и не пытался сделать это) увязать игрушечный мир семьи в единое целое с тем, как плывет яркий электрический свет в ресторанных залах, как с каждой стопкой водки постепенно теряют очертания, все больше плывут столики, салфетки, лица женщин, музыка… Легким-легким-легким становится тело… Как связать мир, в котором жила его семья, со смятыми, серыми в утреннем свете постелями в номерах… с умывальниками в углу… Или с той оскаленной, поросшей зеленой влажной шерстью мертвой обезьяньей мордой… Алый рот открыт, с желтых клыков капает тягучая слюна… Протянутая лапа, а в коричневых мертвых бусинках глаз такое… Бежать! Куда бежать?! Стоит у двери, тянет лапы…
В окно! Прыгнуть из окна!
– Женька, зараза! Держите его, дураки, он же прыгнет!
Алешка Толкачев – лицо над ним белое, светлые волосы прилипли ко лбу… Почему лицо сверху? Ах, ясно – он на полу, заплеванный пол Володькиной квартирки на Ордынке, окурки… Удары по щекам:
– Женька, Женька, ну Женька же!
Иногда Женю тянуло назад, в тихий, игрушечный, незыблемый мир… Он часами валялся в постели с книгой, делал за Сережу задания по-латыни, писал символистские стихи… Услышав доносящиеся из гостиной с детства любимые звуки «Лунной сонаты», неслышно подходил к маме, целовал тонкую холеную руку в тяжелых кольцах и, по детской привычке, опускался перед ней на колени, уткнув лицо в теплую темно-серую шерсть ее платья…
– Женечка, мальчик, когда ты перестанешь нас огорчать?.. – Мамина рука перебирала его длинные волнистые волосы. – У меня все время неспокойно на сердце, очень неспокойно на сердце… Папа хочет, чтобы ты изучал право, ты знаешь…
– Я уже начал заниматься, мама, – лениво отвечал Женя, немного снисходительно взирающий на родителей с высот своего изнаночного опыта.
Но домашняя жизнь вскоре вновь начинала тяготить его. Для домашних Женины «затишья» всегда проходили одинаково: первые дни Женя бывал спокойно-оживлен, словно распространяя на всех вокруг свою обаятельную веселость… Затем прекрасное настроение сменялось каким-то внутренним беспокойством, он становился нервен и раздражителен. Затем впадал в глубокое и черное уныние и наконец срывался…
Собственно, то, что изучать право Женя уехал в Питер, и было очередным вариантом срыва, очередным, только более продолжительным побегом из тихой домашней пристани.
«Ведь я и не знаю его совсем… Словно в первый раз вижу. Дико, странно, так вот ни с того ни с сего понять, что у тебя есть брат, жизнь которого для тебя – самое дорогое из всего, что тебе дорого. Потому что он – чудо, которого я почему-то не видел раньше… Он не изменился, ничуть не изменился, словно его не коснулась армейская грязь… Он какой-то чистый, удивительно, нечеловечески чистый… И быть чистым для него так же естественно, как дышать. Не знаю, но голову на отсечение, что его этот „оскорбительно жгучий бич“, как сказано у Гумилёва, не касался, такие губы – серьезные и чистые – не могли быть осквернены прикосновением чего-то грязного, случайного… Господи, да что со мной такое?
Я чуть не молиться готов на эту его таинственную чистоту… Невыносимо больно, что он – здесь, ему здесь не место. А ведь когда я узнал, что он после гимназии поступил на ускоренные военные курсы, собираясь – тогда еще – на германскую, я не придал этому значения и как-то сразу забыл об этом. И вот он здесь.
Мне-то здесь место, по многим причинам – место. Это искупление: и за Нелли, и за то, что я как-то сразу сломался, поплыл потоком своей мути… Но и порчинка тоже была – изначально. Таким, как он, я никогда не был».
– А ты не ответил. – Сережа курил, стряхивая пепел в окно.
– Если хочешь правду… Я счастлив тебя видеть, но, будь это хоть тысячу раз правильно, радоваться тому, что вижу на тебе военную форму, все же, извини, не могу. Уж очень нейдет она тебе, Сережа.
– Избитая философская проблема: несовпадение формы и содержания. – Сережа засмеялся и погасил о подоконник окурок. – Но какова бы ни была зависимость одного от другого, привыкнуть к этой форме я сумел. Скажи, Женя, как ты понимаешь Причастие?
– Как символ.
– Это было бы символом, если бы это был обряд. А это Таинство.
– Я отнюдь не исключаю эзотерического наполнения происходящих при нем действий.
– Относя эзотерическое наполнение к действиям, ты выставляешь за суть Таинства суть обряда. Если, конечно, ты не отказываешь обряду напрочь в эзотерическом содержании.
– А как ты понимаешь Пресуществление? – спросил Евгений, с жадным интересом вглядываясь в лицо брата.
– Буквально. Я пью Кровь и ем Тело. Это страшно. Но это необходимо. Иначе не будешь иметь части с Ним. Причастие – часть – сопричастность. Сопричастность крови. Меня привела сюда кровь Причастия.
– Что ты имеешь в виду?
– Бежать своей части в посланном испытании – трусость. Трусость уклоняться от кровавого причастия. Женя, сейчас грязно быть чистым. Нет, чистеньким. Потому что сейчас это возможно только за чей-то счет. Я причастен к крови. Я лью и проливаю ее – значит, причастен вдвойне, как тысячи других, идущих страшной человеческой дорогой, и я не пытаюсь с нее свернуть.
– We always kill the men we love[6 - Мы всегда убиваем тех, кого любим (англ.).].
– А знаешь, Женя, ведь по-настоящему убиваешь только один раз. Первый. Ток захлестывающего торжества – от сжавшей наган руки – по всему твоему существу, ток, пронизывающий как-то странно слившиеся воедино душу и тело… А потом, нет, не раскаяние, не страх, это все чушь, книжность, Женя… Просто как-то не веришь, что это сделано тобой… Ведь в это так до конца и не веришь.
– Сережа…
– Да, Женя?
– Ты знаешь… Мне хочется тебе отдать одну вещь. Не спрашивай почему. Просто мне кажется, что так было бы правильно.
Не дожидаясь ответа, Евгений расстегнул ворот – Сережа заметил, что брат стал носить нательный крестик. Под крестиком же на шелковом шнурке висела небольшая синяя ладанка из замши. Евгений снял ладанку, и, словно избегая возникшей театральности, не одел, а просто протянул ее Сереже.
– Что в ней?
– Увидишь… Потом как-нибудь. Она не зашита.
Почувствовав, что происходящая сцена не должна быть продолжительной, Сережа слегка улыбнулся и, вытаскивая портсигар, заговорил о другом.
– Знаешь, Женя, а все же хорошо, что она возникла именно здесь, на Дону.
– Что?
– Белая идея.
– Река русской славы? Да, все это довольно элегантно складывается в символ.
– Странно, когда символ складывается на твоих глазах.
1912 год. Москва
Женя не мог простить себя: спустя несколько лет мысль о невозможной этой нелепости обжигала его такой же злостью, как в тот, отступающий все дальше день…
Он не помнил лица Того Человека, хотя в памяти остались даже мельчайшие подробности солнечного июньского дня. Радостное, легкое ощущение сброшенной гимназической формы – надоевшей, суконной, тяжелой, словно впитавшей в свою ткань дух гимназических коридоров… В первый раз надетый летний костюм из белой фланели – последняя парижская мода… Из-за этого элегантного облачения (вызвавшего папино ворчание по поводу «глупых трат не по средствам») четырнадцатилетнему, но уже вытянувшемуся почти до настоящего своего роста Жене казалось, что все многочисленные прохожие принимают его за взрослого… Было ли так на самом деле? Женя затруднился бы ответить – он только отчетливо помнил тогдашнюю самодовольную радость, засевшую где-то в груди, – радость, носившую его в те дни по Москве…
Стремительной, летящей походкой обогнув храм Христа Спасителя и маленькую церковь Ильи Пророка, он вышел на Пречистенский бульвар.
Женя помнил тяжесть небольшого томика Ницше, лежавшего во внутреннем кармане: он обещал непременно занести его перед своим отъездом в Крым Гале Олихановой – хорошенькой рыжеволосой шестикласснице.