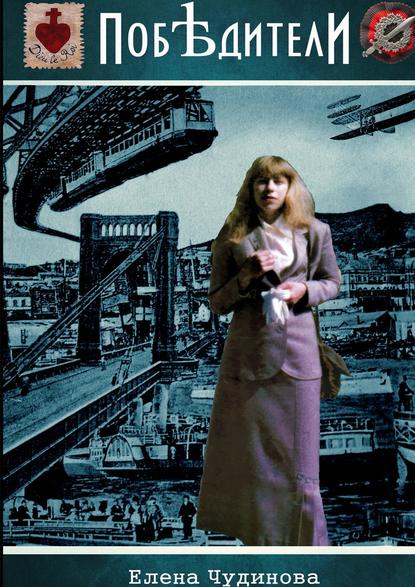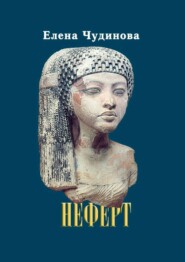По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Побѣдители
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я ничего не ответила. Я только опустилась на колени и, не жалея ни ногтей ни батистового платочка, добыла горстку земли и завязала ее в узелок.
Он тоже ничего не сказал. Но он понял, что я поняла.
Щепотка земли, взятая меж Князевкой и Полуденной, хранится у меня в коробочке из селенита. Когда б ни дедушка Михаил Гаврилович, да ни Колчак Рифейский…
Колчак, Нелли! Колчак.
Губы мои невольно зашевелились, повторяя заученное наизусть еще в отрочестве.
«Я клянусь честью, что будет сделано все возможное, дабы ни волос не упал с головы невинного.
Я клянусь честью, что будет сделано все возможное, дабы явить милосердие к тем, кто сбился с пути в эти смутные и темные времена, кто обманывался или был обманут.
Я клянусь честью, что те, чьи руки обагрены русской кровью, должны теперь трепетать. И пусть они трепещут – уже сегодня, уже в сей час».
Февральская речь. 1921-й год.
Общественная реакция, Ник? Я настроила печатное устройство на два экземпляра, подложила бумаги. Копия пойдет в мои архивы.
Общественная реакция? Было тихо. Было очень тихо. Либертинцы поднимают крик о «тираниях» и «деспотиях» единственно тогда, когда уверены, что лгут. Даже если лгут при этом еще и сами себе. Это у них на уровне инстинктивном. Почуяв строгость, они в мановение ока делаются всем довольны, такое племя.
Но диктатура была совершенно необходима – после всего ужаса, в котором оказалась страна. Вернуть монархию сразу – нет, утопические замыслы в итоге стоят слишком дорого. Светлейший, тогда еще просто Адмирал, сам шел к монархии неспешными шагами. Не все поняли поначалу, куда он следует. Как вычищал он еще в 1918 году социалистов, сторонников Директории… А не все ведь сразу приметили, что в награждениях Правитель не жалует наград, которыми ранее мог жаловать единственно Государь. Временное правительство, оставив традиционные награды, позволяло себе все. Правитель же не поднимался выше ордена Св. Анны или Владимира II степени…
Десять лет диктатуры были суровым, очень суровым временем. Но, вне сомнения, благодетельным.
Ох, как мы на первых курсах спорили о том с Нинкой Трубецкой! Нинка – фрондерка, она осуждала Светлейшего за «демонстративную жестокость».
Может быть, я тоже жестока, я не знаю. Может быть, как говорит Наташа, у меня слишком живое даже для литератора воображение. Но когда я думаю о первых двух-трех годах диктатуры, душа моя наполняется каким-то мрачным ликованием, почти восторгом.
Даже то я одобряю всей душой, что казни были публичны. «Люди вправе видеть возмездие тем, кто убивал их детей и жен». Да, тысячу раз, да! Видеть нечто большее, чем строка в газете.
Многие пеняли Адмиралу за то, что для красных вождей он установил казнь через повешение. Некоторые и до сих пор этим недовольны.
Но ведь именно к повешению были некогда присуждены другие мерзавцы – декабристы. Иудина смерть. Они не были достойны чистой, великодушной пули – после всего, что они творили.
Было жестокое время. Люди очень хотели справедливости. Большевицкая верхушка заслуживала не только смерти, но и позора.
Кто из врагов вел себя достойно, Ник? Надо поискать, хорошенько поискать. Все, о ком я знаю, вели себя даже не как трусы, но как одержимые.
Один из цареубийц, Войков, трижды падал в обморок, когда пришли вывести его на казнь. Его приводили в чувство водой, нашатырным спиртом. Он не хотел идти, падал на пол, бился. И кричал что-то вовсе несуразное. Я, кстати, его бред запомнила, хотя и не знаю, для чего помнить судороги помраченного мозга. «Нет, нет, вы все немолодые, вы не можете меня убить! – кричал он. – Вы не можете, цыганка говорила… Цыганка говорила, это будет мальчишка! Вы меня не убьете, я не вижу мальчишки!»
Бред, конечно. Панический бред труса. Природные убийцы ведь почти всегда трусы.
Отчего-то в моем сознании промелькнуло имя: Коверда.
Полно, успела подумать я. Сейчас не о моем литературном признании речь. О почтеннейшем Борисе Софроновиче я подумаю после. Я выполняю поручение моего Государя, это не шутки.
И тут меня опять скрутило в бараний рог. С новой силой, поскольку я было успокоилась, я не ждала.
Мне слишком отчетливо примнилось, будто папин кабинет, эта моя всегдашняя цитадель, на глазах меняет свои очертания. Пропали портреты, пропал пейзаж с «липой вековой» – да и висеть им, строго говоря, стало негде. Исчезли три огромных кресла, в которых так удобно вести разговоры. Стены сдвинулись. Это по-прежнему был папин кабинет – но такой крошечный! С кладовку размером, разве что в кладовке не бывает окошка.
Глаза мои остекленели от какого-то непереносимого внутреннего холода, зрение сделалось нечетким. Нет, нет, страх убивает разум! Наташа уверяла, что меня не затянет туда, стало быть, не затянет. Я просто разведчик. Я должна понять, что я вижу. А вижу я все же папин кабинет. Все равно родной, все равно знакомый. Те же ряды книг до потолка. Вот большая старинная икона Божией Матери держит на раскрытых ладошках острия мечей, вот стоит белая ботисатва из полупрозрачного алебастра.
Что различается, на что смотреть? Суть же не в этом кукольном размере, не в низком же потолке… Я поняла, я увидела. Большая часть отцовых вещей – здесь, пусть на каких-то иных местах. Но ни одной вещи деда. Ни единой…
Что случилось с дедом, папочка, что?!
Взрыв, даже не боль в затылке, а всепоглощающая вспышка какой-то светлой звезды в голове.
По счастью, стул у бюро – с высокой спинкой, не стул, а полукресло. Я не упала, когда на несколько минут лишилась сознания. Или это были секунды? Я ведь не глядела на часы, когда это все закрутилось.
«Non accedet ad te malum: et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo[7 - «Не приключится тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему». 90:10 (лат.)]».
Язык слегка заплетался. Следующий мой поступок был много меньше благочестив, чем чтение любимого псалма. Я подошла к папиному бару и щедрой рукой плеснула себе в пузатую рюмку самого лучшего из его коньяков.
Курить у папы запрещено, с тех пор, как он оставил эту привычку сам, но уж семь бед – один ответ. Я упала в кресло и с наслаждением затянулась сигаретой.
Не во сне, а наяву… Такого еще не бывало. Что-то послужило катализатором моих видений. Что? Видимо то, чем я занималась: погружение в первую четверть нынешнего века.
Да и началось-то все это, когда я заканчивала «Хранителя анка». Не очень-то приятно быть медиумом, надо признаться. Если я хочу, чтобы этот «сквозняк» прекратился, мне нужно одно – полностью отвлечься от сего исторического периода, по возможности просто о нем на какое-то время забыть.
Но как раз подобным образом я и не могу поступить. На то есть две причины.
Прежде всего – моя помощь нужна моему Государю. По счастью, Ник забыл, что сам же еще недавно связывал мой замученный вид с сиденьем в архивах над страшненькими бумагами. Дело не в бумагах, дело много хуже, как выясняется, только Нику этого знать как раз не нужно. Ему необходима моя помощь – и он ее получит. А уж чего мне это будет стоить – вопрос совсем иной. И никто, ну, кроме разве Наташи, которая все поймет, никто даже не догадается.
И затем, уж упоминая Наташу. Если она права – будет пик и будет спад. А я должна разобраться, сложить кусочки и обрывки. Я должна пройти этот путь до конца.
Ainsi soit-il[8 - Аминь. (франц).].
Все, довольно изничтожать отцовский коллекционный коньяк и тем паче баловаться сигаретами.
Кто вел себя достойно? Уж определенно не Ленин. Все пытался, картавя, как все замечают, вдвое больше своего обыкновения, убедить «разобраться в вопросе». С этим криком «Разобраться!!» хватал конвойных за пуговицы, за полы, за рукава.
Перед моим мысленным взором вдруг, словно наяву, возникла страничка одного, всего лишь одного свидетельства злодеяний Ленина. «…прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на них и свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р [ублей] за повешенного[9 - РГАСПИ, ф. 2, оп. 2, д. 380 – автограф.]». Тут, само собою, «разбираться» было не надо.
Так и рухнул с виселицы с криком «Разобраться!!»[10 - Писатель Максим Горький откликнулся на казнь Ленина из-за границы статьей «Убийцы!», где проклинал новые власти за «хладнокровную жестокость». Когда корреспондент «International Herald Tribune» (первое иностранное издание, взявшее интервью у Правителя) сослался на Горького, Колчак пожал плечами: «Если жестокость необходима, лучше ее хладнокровная разновидность, чем яростная. Нет ничего страшнее палача с чувством». Затем Правитель спросил у журналиста, согласится ли издание, прежде, чем продолжить разговор о жестокости, опубликовать у себя выдержки из отчетов Комиссии Мейнгардта по расследованию преступлений большевизма. «Тогда вы, быть может, и будете готовы к обсуждению этого вопроса. А покуда страна лежит в руинах. Я не смогу в несколько месяцев преодолеть недостаток продовольствия и угля. Но людям будет легче это перетерпеть, если напитать их справедливостью».]
Дзержинский, чьи подручные обучались пыткам у китайцев, Дзержинский, которого никто не пытал и даже не бил, перед казнью все умолял дать ему кокаину.
Мы ведь, кстати, были вполне пощадливы. Даже тогда. Жене Ленина разрешили выехать из России. Потом доживала в нищете, отчаявшись вытянуть из своих сотоварищей какую-то толику Шмитовских денег.
До сих пор ломаю голову над тем, правильно ли помиловали Сталина-Джугашвили, сочтя второстепенной фигурой. Хотя принудительные работы тот отбывал прилежно, видимо, рассчитывая, что пожизненное заключение сменят на двадцатилетнее. Прошения о том слал ежегодно. Не дождался, конечно, хоть и всячески намекал на готовность быть полезным в привычной для каждого бывалого большевика роли доносчика.
Как вел себя Троцкий – сказать трудно, единственный свидетель был не из тех, кто оставляет показания. Всяк знает, что Троцкому удалось улизнуть за границу. Но Правитель сказал – «Никто из виновных не останется безнаказанным». В 1923-м году возмездие настигло Троцкого в Швейцарии, на модном горном курорте. (Уж он-то, в отличие от глупой Крупской, стеснен в средствах не был). Чем там его прибили, ледорубом, кажется? Ездить с револьвером – не слишком удобно, его запомнит любой таможенник. Чем могли, тем и сработали. Один там человек был или двое – не вем.
Но Троцкий – одно из немногих исключений, о последних часах и минутах большинства известно все.
Где доводилось встретить мужество, Ник? Да у простых. У матросов – иной раз. Но их, увы, нельзя было оставлять живыми. В подобных существах огонь безумия тлеет, пока они живы. Вспыхнет в любой момент.