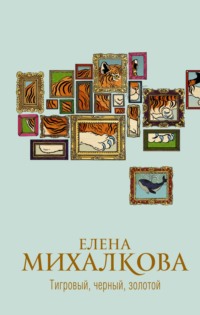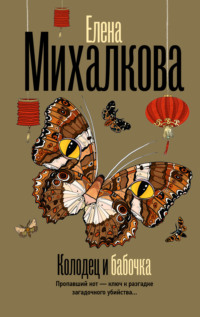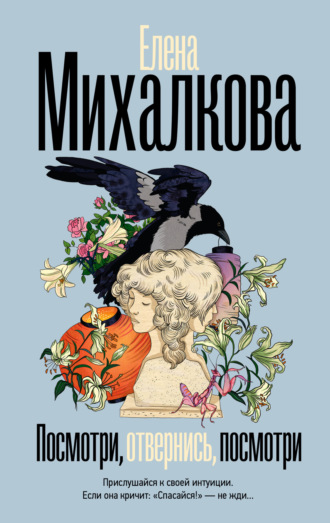
Посмотри, отвернись, посмотри
– Господи, почему?
– Что-то с почками. Он с детства болезненный. То есть вполне естественная смерть.
– И теперь получается, что ты единственный знаешь, где деньги?
– Ага. По мнению этих уродов. Слушай, я уверен: деньги увели менты, которые приехали по вызову. Там реально была полная неразбериха. Ну просто больше некому. Олежек себя не помнил, когда удирал. Пальба, вокруг трупы… Не до денег, живым бы остаться. Да и трусоватый он был. Для такого маневра нужно иметь другой склад характера. Давно эти бабки поделены и потрачены. Нечего там искать. – Он растер ладони и прижал к закрытым векам. – Ф-фух, устал. Не спал всю ночь, места себе не находил. Полинка, я так тебя подвел…
Я отвела его пальцы. Антон страдальчески уставился на меня. Белки у него и в самом деле покраснели, словно он проплакал несколько часов.
– Тебе нужно закапать в глаза. Подожди, поищу в аптечке…
Я вернулась с лекарством и, пока он лежал, запрокинув голову, спросила как можно нейтральнее:
– Ты считаешь, эти люди, твои фальшивые родители, – та банда, которая ищет деньги?
– Больше некому, – отозвался Антон. – Я, кстати, вспомнил… У них был свой карманный следователь. Они еще пугали, что он снова меня закроет. Подкинут при обыске пакетик с порошком – и добро пожаловать обратно в колонию лет на пять.
Все сходится. Греков упоминал, что раньше служил в прокуратуре.
– Они его убили, – тихо сказала я.
Антон дернулся и вскочил.
– Что?!
Я рассказала о зарезанном Германе.
Антон бессильно выругался.
– Тебя кто-нибудь видел в его конторе?
– Нет. – Я умолчала о том, что на дверной ручке и выключателе остались мои отпечатки. – Слушай, зачем они разыграли это представление? Я имею в виду, со мной.
– У меня только одна гипотеза: они считали, что им удастся перетянуть тебя на свою сторону. Ты выведаешь у меня, где деньги, и все расскажешь им. Правда, тут есть одна неувязка…
– Какая?
– Если бы Олег реально поделился со мной, куда он спрятал сумки, неужели я до сих пор не потратил бы все? Тем более после его смерти!
– Ну, они могли считать, что ты решил выждать.
– Для безопасности? Да, возможно. Но вообще наглость у них запредельная!
– Что ты имеешь в виду?
– Что они захотели перевербовать тебя на свою сторону.
– А-а-а. Да, глупо…
Я вспомнила, какая радость меня охватила, когда отец Антона спросил: «Дочка, на ночь-то останешься?» Я сидела возле мерзких упырей, и в их гнусных рожах мне мерещились дивные лики. Мне так нравилось быть среди них… В семье, где взрослые были по-настоящему взрослыми, и ни за кем не требовалось присматривать. Где меня саму опекали весь вечер. Кормили, подливали, укрывали, шутили… Позвали к себе, наконец!
И как приблудная собачонка, которую поманили куском мяса, я доверчиво пошла на запах.
Мы еще долго говорили о случившемся. Я легла к Антону на диван, и он обнимал меня крепко, шепча на ухо чудесную ерунду. Мы укрылись вдвоем в скорлупе моей квартиры, и старое чужое пальто, подобно домашнему призраку, охраняло наш покой.
* * *Неделю спустя воспоминания о моей поездке поблекли. Так выцветает страшный сон. Просыпаешься от кошмара и думаешь, что никогда его не забудешь. Но уже несколько часов спустя не остается ничего, кроме удивления: что за чушь мне приснилась! И колющий взгляд Григория, и фальшиво-дружелюбные лица Ивана и Ларисы, и круглые, как неваляшки, «сестры» Антона с пьяным малиновым румянцем, и даже страшный образ убитого Германа, – все они таяли, уплывали, превращаясь в морок, в неразличимую муть. Лишь одно память сохранила цепко: изумленные глазищи кудрявой малышки, обнимавшей меня за колени.
А ведь они прокалывались на каждом шагу. Чего стоит выдумка о причине ссоры, из-за которой их сын якобы прервал отношения! Поразительно, что ради меня разыграли такой спектакль. Сколько же людей было в нем задействовано…
Эмме я почти не соврала. «Родители Антона давно умерли. Они были преступниками, поэтому он ничего не хотел мне говорить». Бабушка возжелала подробностей. «При встрече, Эмма, все при встрече! На следующей неделе!» У меня есть семь дней, чтобы продумать детали.
На пятый день мне позвонила Ксения.
– Пойдем гулять!
С ее стороны такое приглашение равносильно извинению. Я согласилась, и мы отправились в парк на Речной. Бродили среди цветущей сирени, махали теплоходам и ели мороженое. Она даже купила мне пломбир.
– Подлизываешься? – спросила я. – Будешь каяться?
– Каяться, допустим, мне не в чем. – Ксения брезгливо отлепила бумажку со своего мороженого и бросила мимо урны. – А вот о результатах твоей поездки было бы интересно узнать.
Я рассмеялась. Чужие тайны! Как же я могла забыть! Чтобы удовлетворить свое любопытство, Ксения готова купить всю тележку мороженщика, а не один несчастный стаканчик.
– А никаких результатов, – легко солгала я. – Только зря потратила деньги на перелет и гостиницу.
– А как же частный детектив, которого тебе рекомендовала бабуся?
– Год назад уехал на Бали. Больше ничего не расследует, сидит под пальмами.
Ксения подозрительно взглянула на меня.
– Хочешь сказать, ты отступилась? Ходила озабоченная, а теперь дала задний ход?
– Понимаешь, – сказала я, облизывая холодный сладкий купол пломбира, – это был такой знак от вселенной, что яснее уже некуда. Ты права. Незачем соваться не в свое дело. Антон поссорился с родителями и не хочет с ними общаться. Это все, что мне нужно знать.
В глазах Ксении по-прежнему читалось недоверие, и я добавила:
– Мироздание щелкнуло меня по носу.
– Я когда еще сказала: твой Антон тебя балует. – Ксения не была бы Ксенией, если б удержалась от шпильки: – Даром что монтажник, а понимает, что в его интересах целовать тебе пятки. Ты на три ступеньки выше…
– В каком смысле?
– На социальной лестнице, дурочка. Ты москвичка при квартире и непыльной работенке. Он – пролетарий из Прибзденевки. Не позволяй ему об этом забыть.
– А что насчет неприятного сюрприза, который должен был ждать меня по возвращении?
– Я его выдумала со злости. Кстати, ты все еще выходишь на свои пробежки? – Ксения резко поменяла тему разговора.
– Да, а что?
– С завтрашнего дня присоединяюсь к тебе. Будем худеть вместе.
– Забудь и думать, – отозвалась я.
Мне нравится бегать одной. Я прислушиваюсь к своему телу. Улицы звучат по-другому, пробиваясь сквозь музыку в наушниках. Город видится иным. Пробежка для меня сродни медитации, а коллективные медитации не по мне.
– Это еще почему? – взвилась Ксения.
– Я привыкла бегать одна.
– Переучишься! Твоему мозгу полезны новые задачи.
– Возможно. Но бегать будем по отдельности.
Ксения использовала весь свой арсенал. Минута упрашиваний. Две минуты лести. Намек на смертельную обиду. Глубокое огорчение от того, что она впервые… захотела сама… и вот ее лучшая подруга ставит ей палки в колеса… препятствует единственному ее полезному стремлению… Она не может бегать без компании, к ней пристают, ей страшно!.. Что, если она упадет и сломает ногу! Полина, не отказывай мне, я больше никогда тебя ни о чем не попрошу, клянусь! Ну пожалуйста-пожалуйста-пожааааалуйста!
И взгляд как у лемура из «Мадагаскара».
– Ксень, я в самом деле люблю бегать в одиночестве, – примирительно сказала я, когда все струны этой балалайки издали положенные звуки. – К тому же новичка на первых порах нужно учить. А тренер из меня никудышный.
Ксения обозлилась. Я видела, что она вот-вот наговорит мне гадостей. Но в последний момент в ее глазах что-то мелькнуло. Какая-то хитринка, которая заставила меня усомниться, что мы отыгрываем очередную партию в игре «Продави Полину и заставь ее сделать то, чего ей не хочется». Но Ксения тут же отвлеклась на пассажиров теплохода, спускавшихся по трапу. Больше мы не говорили о совместных тренировках.
Я возвращалась домой со смутным чувством, будто что-то упускаю. Если подумать, в нашей встрече странным было все. Начиная со звонка Ксении. Она могла не проявляться по три месяца. Ее обида не слабела со временем, просто в какой-то момент Ксения сменяла гнев на милость. Я не скучала по ней в этом промежутке. Но меня радовало, когда она возвращалась.
«Странная дружба», – скажете вы.
Дело в том, что я люблю быть одна. Пожалуй, это самое серьезное препятствие для крепкой дружбы. К старости я превращусь в старушку-отшельницу и тихо помру от перелома шейки бедра в собственной ванне, потому что некому будет прийти мне на помощь. Меня не пугает эта перспектива.
Я резко остановилась посреди тротуара. В старушку-отшельницу? Почему в моем воображаемом будущем нет ни намека на Антона?
«Потому что мужчины умирают раньше женщин», – сказала я. Себе-то я отмерила лет девяносто, не меньше.
Однако ход моих мыслей мне не нравился.
Пришло сообщение от Антона: он писал, что закончил пораньше и скоро будет дома. Я медленно двинулась к подъезду. Не оставляло ощущение, будто что-то идет не так. Обычно-то я всем довольный беспечный лопух, и оттого, что на ровном месте психика начала выдавать невротические фортели, мне стало не по себе.
Это посттравматический синдром. Конечно, он! Запоздало проявился тревогой и страхом.
Стоило мне найти объяснение, я подняла глаза – и увидела на другой стороне дороги «дядю Григория».
Меня пригвоздило к месту.
До подъезда оставалось каких-то сто метров, а я не могла двинуться.
Паспорт! Паспорт, который он доставал из моей сумки! Ему нужна была страница с пропиской, и он подсмотрел адрес.
При дневном свете он выглядел старше, чем на искитимском застолье. Тощий матерый урка с синей веной на лбу. Джинсы, футболка, мятая трикотажная кофта на молнии…
Григорий шагнул на проезжую часть, вздернул верхнюю губу, изобразив улыбку-оскал, и я поняла, что сейчас он убьет меня. Подойдет в тихом московском дворе, где дети играют на площадке и коты дремлют на подоконниках, ударит заточкой – и мое время закончится девятнадцатого мая в пять часов вечера.
Нас разделяло несколько шагов, когда на Григория налетел Антон. Он врезался в него, как пушечное ядро. Григорий отлетел в сторону и, не удержавшись на ногах, шлепнулся на бордюр. Антон обернул ко мне побагровевшее лицо. Я никогда не видела его в такой ярости.
– Иди домой, – сквозь стиснутые зубы приказал он. – Я сам с ним разберусь.
– Антон…
– Иди домой, – повторил он. – Подожди! Вот, возьми…
Он сунул мне свой телефон и буквально затолкал в подъезд.
– Антон, что ты хочешь делать…
– Ничего не бойся. Все будет хорошо.
Дверь подъезда закрылась. В последний миг я увидела костлявую фигуру Григория, быстро удалявшегося через двор.
Антон бросился за ним.
Можно было пренебречь его распоряжением. Выскочить на улицу, поднять скандал, вызвать полицию… Но Антон пообещал, что разберется сам.
Когда, поднявшись в квартиру, я выглянула из окна, двор был уже пуст. Антон с Григорием исчезли.
Несколько часов я места себе не находила. Рассказать о происходящем можно было только Эмме, но та всполошилась бы. Незачем тревожить даму ее возраста.
В половине девятого щелкнул дверной замок. Я вылетела в прихожую, готовая увидеть своего мужа окровавленным и избитым. Но Антон выглядел как обычно, разве что чуть более измученным.
– Полина! Как хорошо, что ты дома!
– Господи, где мне еще быть!
Теперь я обнимала его так, словно он потерялся и нашелся.
– Дай ботинки сниму, – рассмеялся он, и я отстранилась.
– Что произошло? Ты его догнал? Вы дрались?
– Да ну, какое там… Я существо миролюбивое. – Он взлохматил мне волосы.
– Я думала, ты его прямо там убьешь, на месте.
– Я жутко за тебя испугался. – Антон снова притянул меня к себе. – Слушай, живот подводит. У нас есть поужинать? Разогрей, пожалуйста. Меня на нервяке пробило на хавчик.
Он как-то судорожно улыбнулся и прерывисто вздохнул. Вот теперь стало заметно, что встреча с этим выродком далась ему нелегко.
Пока он мылся, я сварила картошку и пожарила отбивные. Антон вышел, обернутый в полотенце, налил рюмку водки и опрокинул в себя, как родниковую воду. Потряс головой:
– Бр-р-р! Совсем я отвык от таких людей. Их только с водкой можно принимать. Дай огурчик!.. – Он захрустел огурцом и потянулся. – Я его вспомнил, как только увидел. Когда я освободился, за мной несколько дней по пятам ходил хвост. Вот это он и был. Кто он такой, не знаю, но его харя у меня на сетчатке выжжена.
– Ты догнал его? – Я поставила перед ним тарелку и села напротив.
– Ага. Правда, он удирал довольно резво. Видимо, решил, что его будут бить.
– Я тоже так подумала!
– Мы просто побеседовали. Правда, разговор вышел долгий. Я ему объяснял все то, о чем мы с тобой говорили… Что если бы я знал, где деньги, я бы давно их потратил. Да и смысла никакого не было Олегу со мной делиться. В чем профит-то? Ради какой великой цели? Чтобы я вышел раньше него и слинял с бабками? За которые его чуть не ухлопали… – Он налил себе еще одну стопку, опрокинул ее и внезапно засмеялся.
– Ты чего?
– Подумал: вот где пригодились тупые клиенты.
– Что ты имеешь в виду?
– Начальство дрючит нас, как чертей. «Никаких склок, никакой грубости!» Даже если заказчик безмозглый и орет как баран, мы все равно обязаны разговаривать с ним спокойно. Выдержанно! Я раньше так бесился… А сегодня сидим на лавке с этим обрубком, он курит, я ему втираю, что они должны меня оставить в покое… Елозим сто раз по одному и тому же месту, уже достало. Но я все равно думаю: буду повторять сколько потребуется, пока он не въедет.
– И как, въехал?
Антон отправил в рот горячую картофелину.
– Вроде бы! – с набитым ртом выговорил он. – Я все время балансировал между нормальным разговором и угрозами. Они не понимают другого языка. Но, знаешь, у меня хорошее предчувствие. Надеюсь, этот дрищ передаст своим, что я для них – пустой билет.
– А зачем ему нужна была я?
Антон отрезал кусок отбивной, прожевал и лишь тогда ответил:
– Хотел через тебя найти ко мне подходы.
– Каким образом? – изумилась я.
Он пожал плечами:
– Говорю тебе, у этих людей своя логика. Он решил, что очаровал тебя, когда ты была у них в гостях… Значит, можно к тебе подкатить. О том, что ты сбежала от них ночью, он уже успел забыть или вообще не думал. – Антон вытер вспотевший лоб. – Ф-фух! Два часа трепались, а такое чувство, будто я неделю вагоны разгружал. Пойду прикорну на часок. Разбуди меня, вечером пройдемся…
Но разбудить его я не смогла. Антон проснулся только утром, опухший и страшный, словно выпил накануне не две рюмки, а бутылку. Впрочем, так оно и оказалось. Пустая бутылка стыдливо пряталась за мусорным ведром. Значит, он вставал ночью, пока я спала.
Дорого же ему дался разговор с этим уголовником.
Я оценила, как отчаянно Антон пытался держать лицо. Мне нужно было все обдумать…
С этой пустой бутылкой я вновь споткнулась о мысль, как плохо его знаю.
Если разобраться, он ввалился в мою жизнь с такой же бесцеремонностью, как и Ксения. Зачем это нужно моей подруге, я не понимаю до сих пор. Одно могу сказать точно: конечно, Ксения ко мне привязана, даже очень… Но она меня не любит.
А Антон – любит.
Имеет ли значение что-то еще, кроме этого?
Если бы мне было семнадцать, я бы сказала – нет.
Но мне двадцать девять. За Антоном тянется шлейф нехорошей истории с отсидкой и украденными деньгами.
Подозреваю ли я его в том, что на самом деле ему известно, где деньги инкассаторов?
Отличный вопрос.
Три дня спустя у меня все еще не было на него ответа. Я много тренировалась. Наматывала на пробежке по десять километров. Возвращалась домой взмокшая, обессиленная. Но пока я бежала, мысли о прошлом Антона вышибало из головы.
В пятницу я вышла из дома, как всегда, в десять утра. Пробегая через новый микрорайон – ни деревьев, ни кустов, одни заборы и башни новостроек, – увидела девушку, раскорячившуюся над коробкой, которую она пыталась втащить по ступенькам к подъезду. Вокруг не было ни души. Девушка подняла на меня умоляющий взгляд, и я остановилась.
В коробке были книги. До сих пор старые книги производят на меня магическое воздействие. Светоний, «Благие знамения» и «Недопёсок».
Есть книги, которые нам нравятся. Есть книги, которые мы любим. Есть книги, которые мы перечитываем.
А есть книги, из которых мы состоим.
Я состою из «Алисы в Стране чудес», «Улисса», «Ведьмака», «Черной курицы» и как раз таки «Недопёска». Папа читал мне его в детстве, прерываясь от хохота на каждой странице. «Собака походила на сосновый чурбак, укутанный войлоком».
– Вы мне не поможете? – Девушка молитвенно сложила руки. – Грузчики меня бросили.
Мы подхватили коробку с двух сторон и потащили в подъезд. Я боялась, что под тяжестью книг отвалится дно, но картон только выглядел хлипким.
– Не знаю… как вас благодарить…
Мы выпали на восьмом этаже, пыхтя от натуги. Лифт с клацаньем захлопнул двери, словно сожалея, что никого не прищемил.
– Не отрегулировали его… Каждый раз… зубами щелкает…
Стены в побелке. Пыльный ремонтный воздух.
– Хотите взять книжку на память?
– Спасибо!
Я склонилась над томиками, и в этот момент меня как будто толкнули в голову. Сине-зеленые собаки взлетели навстречу, и нас втянула темнота.
Глава четвертая. Саша
1
Если вы видите смерч и вам кажется, что он не движется, это значит, что он движется прямо на вас.
Вот единственное знание, вынесенное мной из школы.
Географичке было лет под сто. Ладно, пятьдесят. Но она вся была старая, от лаковой шпильки в седом пучке до заношенных туфель-балеток. Плоские такие, с узкими крысиными носами. Она ими постоянно шаркала. Шаркала, когда входила в кабинет. Шаркала, когда писала на доске тему урока. Говорю же, старуха.
Школа и без того полна гадостных звуков. У Чугунковой гнусавит Рианна в телефоне. Козырев орет сам. Скрипит мел, как умирающий. На перемене малыши из началки визжат так, словно их одного за другим пожирает мегалодон.
Вообще-то мегалодоны вымерли. Но знаете, от мертвых можно всего ожидать.
Даже если выкинуть из окна кретина Козырева, и дуру Чугункову с ее розовым айфончиком, и всех училок с первоклопами, все равно останется некий звук. Неслышная песня школьных коридоров. Унылая и безнадежная, как у ирландских рыбаков, захваченных бурей. Ирландские рыбаки, понимая, что не вернутся домой, начинали петь. Так они прощались со своей жизнью. А поскольку и жизнь у них была тоскливая, и смерть противная, в ледяной воде, то песня получалась глухой и однообразной. Ирландские детишки, заслышав ее на берегу, понимали, что трески сегодня к ужину не дождутся. Да и папочку тоже.
Ладно, про рыбаков я все сочинила. Вряд ли они пели, завидя большую волну. Наверное, просто орали друг на друга, надеясь, что, если погромче обматерить какого-нибудь Галлахера или Бреннана, те внезапно включат соображалку, найдут выход и всех спасут. Мои родители рассуждают так же. И соседи моих родителей. В общем, все. Они считают, что, если как следует на меня наорать, выйдет толк.
И знаете что?
Они правы.
Географичка ползет пальцем по списку учащихся.
– Нечаева, к доске.
Я обвожу класс насмешливым взглядом. Все притихли, ожидая бесплатного развлечения.
– Ну же, Нечаева! Атмосферные явления, – подсказала старуха.
Шпилька покачивается у нее на затылке, как ключик от дверцы. Поверни – а внутри иссохшей учительской черепушки старенькое расстроенное пианино, две канарейки, дырчатая шаль и подписка на газету «Правда». Между прочим, эта газета до сих пор у нас на антресолях валяется. Желтая, точно прокуренная.
– Я не знаю, что отвечать, Инна Сергеевна.
– Про тайфуны, смерчи и торнадо.
Блин, какая зануда!
– Смерч, тайфуны и торнадо нафиг нам сюда не надо, – сообщила я.
Класс заржал.
До географички дошло, что я просто не готова к уроку. Я ожидала, что она, как обычно, скажет: «Садись, Нечаева, два» – и вся эта глупость закончится. Но Инна Сергеевна мигнула два раза, словно заводная кукла, чуть наклонилась вперед – клянусь, я расслышала механический скрип, – и отчетливо выговорила, обращаясь куда-то к портрету Миклухо-Маклая:
– Если вы видите смерч и вам кажется, что он не движется, это значит, что он движется прямо на вас.
Все замолчали. Я откровенно растерялась. Это было так странно, словно в соседе, вечно рыгающем тупом пьянчуге, вдруг прорезался оракул. Пока ее рука выводила двойку напротив моей фамилии, я вернулась на свое место и села в полной тишине.
– Рубцов, к доске, – сказала географичка.
В две тысячи двенадцатом я видела беду. Видела, как она застыла в сухом воздухе – поодаль, как мне казалось.
Все это время я смотрела на нее, как последняя дура, не понимая, что она движется прямехонько ко мне. А потом она прошлась по нам вихрем и разметала в клочья нашу маленькую жизнь.
2
Но в две тысячи восьмом всего этого я даже представить не могла. Да мне и не особенно нравилось что-то представлять. Карамазов часто повторял: «Память – блестящая, воображения – ноль». И складывал из указательного и большого пальцев морщинистый кружок, поросший черными волосками.
Поразительное дело: весь Карамазов седой и пушистый, как персик. А руки будто от другого владельца. Остались из тех времен, когда он еще был могучим брюнетом.
Это сам Дима-дед так про себя говорит. «В те времена, когда я был могучим брюнетом…» Я каждый раз хохочу. «Ах, безжалостное детство! Отчего тебе, Санечка, так трудно поверить, что я был молод и красив? И фотографии не убеждают? О, скептичное дитя нашего разуверившегося века!»
«Натырили фоток с чужих помоек – а теперь в уши мне льете!»
Этот диалог повторялся у нас в разных вариантах. Я отказывалась признавать, что портреты дрищеватого мужика с такой высокомерной морденью, что только сниматься в фильмах про благородную жизнь, и нынешний жирный мохнатый старикашка – чисто поседевший шмель – имеют между собой что-то общее.
Конечно, все это было еще до того, как Карамазов стал престарелым извращенцем. После-то нам было уже не до разговоров.
Понятия не имею, откуда возникло странное имя «Дима-дед». Я долгое время считала, что это одно слово: Димодет. Только годам к десяти до меня дошло, что Карамазов – Дмитрий Ильич. Подозреваю, не я одна считала его Димодетом. Тетки в нашем дворе называли его именно так. Иногда – Димодетушка. Как-то я даже услышала: «Димодетушка Ильич, будь миленький…»
Ну, миленьким-то Карамазов не был. Многие считали его злобной свиньей. Но он был офигеть какой образованный. Целый университет со всеми факультетами в одной носатой башке. Это вам не географичка с канарейками!
Познакомились мы, когда мне было семь. До того дня я не выделяла его среди остальных соседей. Но случилось так, что в то утро Вика умчалась на семинар, а меня с собой не взяла. Я, видите ли, спала!
Так себе причина.
Вику слегка оправдывает тот факт, что до этого мне не сильно доставалось. Я была мелкая, как блоха, и уже к трем годам научилась забиваться в щели при первых признаках папашиного бешенства. В нашей квартире таких мест хватало. Мое любимое было за холодильником. Один раз папенька пытался меня оттуда выудить. Но тут уж я сама взбесилась. Это было запретное место, ясно? Только мое! Никто не имел права совать туда свои грабли! Я цапнула его за ладонь. Он вслепую шарил за холодильником, и я вцепилась всеми зубами в мякоть под мизинцем.
Папочка взревел, как укушенная Годзилла, и стал пихать холодильник, чтобы отодвинуть его и навалять мне как следует. Но наш холодильник весит килограммов двести. Когда его вносили в кухню, пришлось отломать косяки, чтобы он прошел в дверь. Так мне рассказывала мама. Правда, в других комнатах косяков тоже не хватает, а там-то холодильников нету… Но мне как-то не приходило тогда в голову совместить эти два факта.
В недолгой борьбе холодильник победил. Папа свалился под морозилкой и захрапел. Тогда я выбралась наружу и удрала.
Но в тот день, когда я познакомилась с Карамазовым, все пошло не так с самого утра.
Уже за завтраком папаша был на взводе. Молча жевал свой бутерброд, шумно прихлебывая из чашки. Обычно по утрам он трещит не затыкаясь. Мелет языком что в голову взбредет, можно подумать, ему за это приплачивают. А тут сидит хмурый, как с похмелюги, хотя вчера точно не пили. Откуда я знаю? Бутылок-то нету. И по углам не наблевано.
В общем, даже дураку ясно: что-то не так.
И еще он долго жевал. Словно бутерброд был из гудрона. Наконец покончил с этим, сунулся в холодильник, чтобы сделать еще один, – и тут мамочка возьми да брякни, что колбаса закончилась.
Первый удар достался ей. Костлявый отцовский кулак прилетел матери прямо в нос. Она заорала, кинулась в ванную – а папаша вместо того, чтобы топать за ней, медленно повернул башку и уставился на меня с таким видом, будто это я слопала всю колбасу.