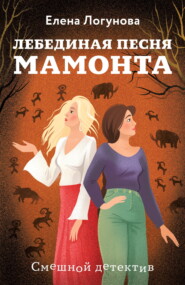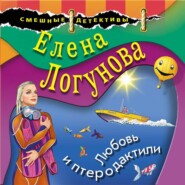По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фотосессия в жанре ню
Автор
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Баба Женя, даже поднятая по тревоге, не металась по квартире с охами и вздохами. Она внимательно выслушала сумбурные Олины объяснения и отреагировала так, словно всю свою семидесятилетнюю жизнь готовилась проснуться утром первого января от бешеного стука в дверь и бежать спасать непутевую внученьку. Открыла сервант – взяла с полочки Дашкины документы, шагнула к вешалке – надела поверх халата длинное болоньевое пальто, сбросила тапки – сунула ноги в винтажных «фильдеперсовых» чулках в теплые боты. Рассовала по карманам кошелек и мобильник, взмахнула перчатками, как полководец:
– Едем, Леля!
Оля с трудом подавила вздох облегчения.
Гневливый тип – голос по телефону – внушал хорошей девушке, незамужней учительнице, смутные опасения, и ехать к нему в поселок Прапорный, на улицу Березовую, восемь, в одиночку она робела. Присутствие деловитой и боевой старушки меняло ситуацию в корне: пусть теперь ОН тревожится и боится! Баба Женя три шкуры спустит с человека, посмевшего обидеть ее единственную кровиночку Елочку, да и Олю-Лелю, как свою, почти родную, она в обиду тоже не даст!
Даже таксист, мужик тертый, жадный и бессовестный (а какой еще стал бы работать утром первого января?), под напором бабы Жени сдулся, как проколотый воздушный шар, и уменьшил первоначально запрошенную сумму почти вдвое. Правда, настроение это ему испортило основательно, и всю дорогу до Прапорного он бубнил что-то нелестное про стервозных и скаредных баб. Железобетонную Евгению Евгеньевну этот монолог нисколько не тронул, а вот Оля краснела и страдала от совокупных мучений: было стыдно считаться стервой, совестно быть жадной и обидно называться бабой в свои неполные тридцать пять.
Худенькая и стройная, Оля обычно слышала в свой адрес гораздо более приятное: «Девушка, а девушка?» Даже школьники за глаза называли ее не Ольгой Павловной, а Олечкой. А некоторые особенно дерзкие старшеклассники, случалось, порывались после занятий проводить «Олечку Палночку» домой, мотивируя смелое предложение необходимостью помочь хрупкой русичке нести тяжелую сумку, туго набитую ученическими тетрадками.
– Приехали! – сказал таксист, резко остановив машину у одинокого столбика с указателем «пос. Прапорный» и при торможении выбросив из-под колеса фонтанчик снега и мерзлой земли.
Синяя табличка с надписью покрылась толстым слоем льда и блестела, как лакированная.
Оля опасливо посмотрела на волнистое белое поле, в отдалении поросшее слабо волновавшимися сизыми дымками, похожими на зарождавшиеся смерчи, и робко напомнила:
– Нам на улицу Березовую, дом восемь!
– Тогда говорите, куда дальше ехать! – Вредный таксист пожал плечами.
По идее, отправной точкой для поиска одноименной улицы могла бы стать какая-нибудь береза, но ни единого дерева в поле зрения не имелось. Сразу за столбиком с обледеневшим указателем дорога разветвлялась на три рукава.
«Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – голову сложишь, прямо пойдешь – и сам пропадешь, и коня потеряешь», – вспомнилось Ольге Павловне незабываемое, фольклорное.
– А сам ты слепой, что ли?! – грубо, но действенно осадила зарвавшегося водилу баба Женя. – Видишь, две дороги в снегу – по самое дорогое, а по третьей след тянется!
Оля присмотрелась: след тянулся налево. Туда, где «голову потеряешь»!
– Видишь, кто-то тут проехал не так давно! Давай гони туда же, – распорядилась баба Женя.
«Гони» – это было слишком сильно сказано.
Недовольно урча, машина поерзала, приблизительно вписалась в колею и тряско двинулась в направлении дымных смерчей.
Минут через пять стало видно, что они вырастают из присыпанных снегом крыш, затем такси поравнялось с крайним домовладением, и из-за забора послышался бодрый собачий лай. К первому псу охотно присоединился второй, затем третий, и вскоре искрящийся морозный воздух задрожал, сотрясаемый мощным собачьим хором. Судя по голосам, до появления машины четвероногие друзья отчаянно скучали.
– Мы разбудим весь поселок! – без тени вины констатировала баба Женя.
– И нас побьют, – опасливо добавил таксист.
Он еще больше сдулся и притих. Оля тоже помалкивала, высматривая названия улиц и номера домов.
«Березовая, 8» было размашисто начертано мелом на черном металлическом заборе. Без ошибок, машинально отметила русичка Ольга Павловна, но скверным почерком, который неприятно напоминал каракули обаятельного и харизматичного хулигана и двоечника Витьки Овчинникова из пятого «Б».
Нехорошее предчувствие, появившееся у Оли еще в ходе разговора с телефонным грубияном, заметно усилилось. Педагогический опыт подсказывал ей, что человека с таким почерком невозможно обескуражить строгим взглядом и действенно нейтрализовать короткой командой: «Садись, два!»
Вдобавок, приземистый дом номер восемь выглядел ничуть не более гостеприимно, чем военный блиндаж: ворота, калитка и дверь закрыты, а окна не только забраны ставнями, но еще и зарешечены длинными сталактитами могучих сосулек. Они свисали с карниза по всему фасаду, как чудовищные зубы.
– Ждать не буду, через пять минут уезжаю! – оценив обстановочку, предупредил трусоватый таксист.
– Только попробуй! Я еще из ума и памяти не выжила, номер твоей машины хорошо запомнила! Вот как пожалуюсь в администрацию таксопарка, и уволят тебя к чертовой бабушке, будешь тогда на церковной паперти на бензин себе просить! – пригрозила ему в ответ баба Женя, выбираясь из машины.
Таксист пробурчал что-то нехорошее про разных чертовых бабушек и баб, и Оля, спасаясь от позора, поспешно вывалилась в снежную целину. Щеки у нее заалели, как два снегиря.
– Хозя-яяин! Эй, хозя-ааааин! – уже распевалась, вытягивая шею, баба Женя, стоя у непроглядного забора. – Открывай! Вот пень глухой… Просыпайся, черт тугоухий!
Оля нервно тискала варежки.
По ее мнению, все окрестные пни, глухие и не очень, от баб-Жениных воплей должны были пробудиться к жизни, как старый дуб из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Собаки в близлежащих дворах лаяли, как крыловская Моська на Слона. Таксист с прямым намеком не глушил мотор машины. Оле очень хотелось провалиться под снег.
Наконец из-за забора донесся долгий зловещий скрип, а сразу за ним – грубый голос:
– Кого там черти принесли?
– Это я! – пискнула Оля, с некоторым облегчением узнав неласковый бас.
– «Я» бывают разные, – авторитетно сообщил обладатель баса, дополнив эту ценную информацию издевательским смешком. – Ты ли это, хорошая девочка, незамужняя учительница?
– Мы, мы! – нетерпеливо ответила баба Женя и грудью, в свое время вскормившей пятерых детей, мощно вломилась в едва приоткрывшуюся калитку. – Да посторонись ты, орясина!
Оля неуверенно хихикнула.
Крепкие старушечьи боты на «манке» с вафельным хрустом протопали по снегу и с тележным скрипом – по дощатому крыльцу. Снова горестно застонали несмазанные петли, а затем гулко хлопнула дверь.
Оля замешкалась, выжидая, и дождалась: со двора на улицу выглянул хмурый мужик в перекошенной лохматой ушанке. Обтрепавшиеся шнурки развязанных ушей трепетали у вздувшихся желваками щек игривыми пейсиками. Кулаки у мужика были бугристые и крупные, как ананасы.
Краем глаза Оля заметила, что такси тихо двинулось прочь, но ничего по этому поводу не сказала и даже не дернулась. Цепким взглядом из-под густых бровей хмурый дядька удержал ее на месте.
– Здрасте, – шепотом сказала Оля.
Снегири на ее щеках замерзли и обесцветились.
– Ну, привет, незамужняя девочка, хорошая учительница, – без особой сердечности ответил мужик и оглянулся через плечо. – А это кто? Твоя злая дуэнья?
– Это Евгения Евгеньевна, Елкина бабушка, – холодно ответила Ольга Павловна, не привыкшая к тому, чтобы ей нагло хамили и бесцеремонно «тыкали».
– «Елкина бабка» – это хорошо сказано, – заметил грубиян и неожиданно славно улыбнулся: – А что такое «орясина», ты мне объяснишь?
Снегири оттаяли.
– В толковом словаре Ушакова просторечное слово «орясина» означает «большая палка, дубина, жердь», а также «человек высокого роста», – без запинки протараторила Ольга Павловна.
– Дубина, значит? – Мужик пошеве-лил бровями и отступил во двор, освобождая калитку. – Ну, заходи, что ли, хорошая-незамужняя!
В доме было сумрачно и густо пахло табаком, борщом и собачьей шерстью.
Оля машинально огляделась в поисках теплых мужских носков подходящего для орясины сорок десятого размера, разложенных на печи для просушки, а также с целью традиционного вымогательства у Дедушки Мороза праздничных подарков. В качестве подходящего презента в данном тяжелом случае зримо виделись, например, бутылка дешевой водки и гирлянда сосисок.
– Едем, Леля!
Оля с трудом подавила вздох облегчения.
Гневливый тип – голос по телефону – внушал хорошей девушке, незамужней учительнице, смутные опасения, и ехать к нему в поселок Прапорный, на улицу Березовую, восемь, в одиночку она робела. Присутствие деловитой и боевой старушки меняло ситуацию в корне: пусть теперь ОН тревожится и боится! Баба Женя три шкуры спустит с человека, посмевшего обидеть ее единственную кровиночку Елочку, да и Олю-Лелю, как свою, почти родную, она в обиду тоже не даст!
Даже таксист, мужик тертый, жадный и бессовестный (а какой еще стал бы работать утром первого января?), под напором бабы Жени сдулся, как проколотый воздушный шар, и уменьшил первоначально запрошенную сумму почти вдвое. Правда, настроение это ему испортило основательно, и всю дорогу до Прапорного он бубнил что-то нелестное про стервозных и скаредных баб. Железобетонную Евгению Евгеньевну этот монолог нисколько не тронул, а вот Оля краснела и страдала от совокупных мучений: было стыдно считаться стервой, совестно быть жадной и обидно называться бабой в свои неполные тридцать пять.
Худенькая и стройная, Оля обычно слышала в свой адрес гораздо более приятное: «Девушка, а девушка?» Даже школьники за глаза называли ее не Ольгой Павловной, а Олечкой. А некоторые особенно дерзкие старшеклассники, случалось, порывались после занятий проводить «Олечку Палночку» домой, мотивируя смелое предложение необходимостью помочь хрупкой русичке нести тяжелую сумку, туго набитую ученическими тетрадками.
– Приехали! – сказал таксист, резко остановив машину у одинокого столбика с указателем «пос. Прапорный» и при торможении выбросив из-под колеса фонтанчик снега и мерзлой земли.
Синяя табличка с надписью покрылась толстым слоем льда и блестела, как лакированная.
Оля опасливо посмотрела на волнистое белое поле, в отдалении поросшее слабо волновавшимися сизыми дымками, похожими на зарождавшиеся смерчи, и робко напомнила:
– Нам на улицу Березовую, дом восемь!
– Тогда говорите, куда дальше ехать! – Вредный таксист пожал плечами.
По идее, отправной точкой для поиска одноименной улицы могла бы стать какая-нибудь береза, но ни единого дерева в поле зрения не имелось. Сразу за столбиком с обледеневшим указателем дорога разветвлялась на три рукава.
«Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – голову сложишь, прямо пойдешь – и сам пропадешь, и коня потеряешь», – вспомнилось Ольге Павловне незабываемое, фольклорное.
– А сам ты слепой, что ли?! – грубо, но действенно осадила зарвавшегося водилу баба Женя. – Видишь, две дороги в снегу – по самое дорогое, а по третьей след тянется!
Оля присмотрелась: след тянулся налево. Туда, где «голову потеряешь»!
– Видишь, кто-то тут проехал не так давно! Давай гони туда же, – распорядилась баба Женя.
«Гони» – это было слишком сильно сказано.
Недовольно урча, машина поерзала, приблизительно вписалась в колею и тряско двинулась в направлении дымных смерчей.
Минут через пять стало видно, что они вырастают из присыпанных снегом крыш, затем такси поравнялось с крайним домовладением, и из-за забора послышался бодрый собачий лай. К первому псу охотно присоединился второй, затем третий, и вскоре искрящийся морозный воздух задрожал, сотрясаемый мощным собачьим хором. Судя по голосам, до появления машины четвероногие друзья отчаянно скучали.
– Мы разбудим весь поселок! – без тени вины констатировала баба Женя.
– И нас побьют, – опасливо добавил таксист.
Он еще больше сдулся и притих. Оля тоже помалкивала, высматривая названия улиц и номера домов.
«Березовая, 8» было размашисто начертано мелом на черном металлическом заборе. Без ошибок, машинально отметила русичка Ольга Павловна, но скверным почерком, который неприятно напоминал каракули обаятельного и харизматичного хулигана и двоечника Витьки Овчинникова из пятого «Б».
Нехорошее предчувствие, появившееся у Оли еще в ходе разговора с телефонным грубияном, заметно усилилось. Педагогический опыт подсказывал ей, что человека с таким почерком невозможно обескуражить строгим взглядом и действенно нейтрализовать короткой командой: «Садись, два!»
Вдобавок, приземистый дом номер восемь выглядел ничуть не более гостеприимно, чем военный блиндаж: ворота, калитка и дверь закрыты, а окна не только забраны ставнями, но еще и зарешечены длинными сталактитами могучих сосулек. Они свисали с карниза по всему фасаду, как чудовищные зубы.
– Ждать не буду, через пять минут уезжаю! – оценив обстановочку, предупредил трусоватый таксист.
– Только попробуй! Я еще из ума и памяти не выжила, номер твоей машины хорошо запомнила! Вот как пожалуюсь в администрацию таксопарка, и уволят тебя к чертовой бабушке, будешь тогда на церковной паперти на бензин себе просить! – пригрозила ему в ответ баба Женя, выбираясь из машины.
Таксист пробурчал что-то нехорошее про разных чертовых бабушек и баб, и Оля, спасаясь от позора, поспешно вывалилась в снежную целину. Щеки у нее заалели, как два снегиря.
– Хозя-яяин! Эй, хозя-ааааин! – уже распевалась, вытягивая шею, баба Женя, стоя у непроглядного забора. – Открывай! Вот пень глухой… Просыпайся, черт тугоухий!
Оля нервно тискала варежки.
По ее мнению, все окрестные пни, глухие и не очень, от баб-Жениных воплей должны были пробудиться к жизни, как старый дуб из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Собаки в близлежащих дворах лаяли, как крыловская Моська на Слона. Таксист с прямым намеком не глушил мотор машины. Оле очень хотелось провалиться под снег.
Наконец из-за забора донесся долгий зловещий скрип, а сразу за ним – грубый голос:
– Кого там черти принесли?
– Это я! – пискнула Оля, с некоторым облегчением узнав неласковый бас.
– «Я» бывают разные, – авторитетно сообщил обладатель баса, дополнив эту ценную информацию издевательским смешком. – Ты ли это, хорошая девочка, незамужняя учительница?
– Мы, мы! – нетерпеливо ответила баба Женя и грудью, в свое время вскормившей пятерых детей, мощно вломилась в едва приоткрывшуюся калитку. – Да посторонись ты, орясина!
Оля неуверенно хихикнула.
Крепкие старушечьи боты на «манке» с вафельным хрустом протопали по снегу и с тележным скрипом – по дощатому крыльцу. Снова горестно застонали несмазанные петли, а затем гулко хлопнула дверь.
Оля замешкалась, выжидая, и дождалась: со двора на улицу выглянул хмурый мужик в перекошенной лохматой ушанке. Обтрепавшиеся шнурки развязанных ушей трепетали у вздувшихся желваками щек игривыми пейсиками. Кулаки у мужика были бугристые и крупные, как ананасы.
Краем глаза Оля заметила, что такси тихо двинулось прочь, но ничего по этому поводу не сказала и даже не дернулась. Цепким взглядом из-под густых бровей хмурый дядька удержал ее на месте.
– Здрасте, – шепотом сказала Оля.
Снегири на ее щеках замерзли и обесцветились.
– Ну, привет, незамужняя девочка, хорошая учительница, – без особой сердечности ответил мужик и оглянулся через плечо. – А это кто? Твоя злая дуэнья?
– Это Евгения Евгеньевна, Елкина бабушка, – холодно ответила Ольга Павловна, не привыкшая к тому, чтобы ей нагло хамили и бесцеремонно «тыкали».
– «Елкина бабка» – это хорошо сказано, – заметил грубиян и неожиданно славно улыбнулся: – А что такое «орясина», ты мне объяснишь?
Снегири оттаяли.
– В толковом словаре Ушакова просторечное слово «орясина» означает «большая палка, дубина, жердь», а также «человек высокого роста», – без запинки протараторила Ольга Павловна.
– Дубина, значит? – Мужик пошеве-лил бровями и отступил во двор, освобождая калитку. – Ну, заходи, что ли, хорошая-незамужняя!
В доме было сумрачно и густо пахло табаком, борщом и собачьей шерстью.
Оля машинально огляделась в поисках теплых мужских носков подходящего для орясины сорок десятого размера, разложенных на печи для просушки, а также с целью традиционного вымогательства у Дедушки Мороза праздничных подарков. В качестве подходящего презента в данном тяжелом случае зримо виделись, например, бутылка дешевой водки и гирлянда сосисок.