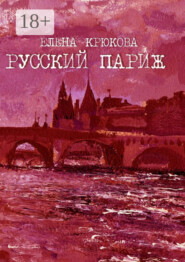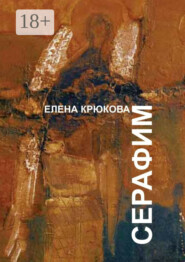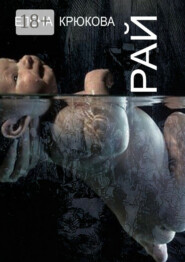По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночной карнавал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ужас моего детства.
Никакой карцер не сравнится с ней.
Воспитатель вталкивал меня в черную комнату и запирал. Ключ хрустел в замке. Сперва я ничего не видела. Глаза привыкали – я различала очертания койки, устланной черным крепом, черной подушки, черной тумбочки, на черной зеркальной поверхности которой стоял черный стакан, наполненный черной пахучей жидкостью.
Я тогда не знала, что именно так пахнет коньяк.
В моей деревне я никогда его не пила.
У нас мужики пили по праздникам самогон… красненькое… домашние вишневые, клубничные настойки…
Запах коньяка дразнил, насмехался, возбуждал.
Воспитатель заходил через горы времени. Я успевала снова позабыть себя и опять вспомнить. Лежала на койке ничком. Он грубо встряхивал меня за плечо, поворачивал к себе. Тусклый красновато-черный свет сочился из-под потолка, из-под железной двери, исходил от каменной кладки, от блестящей никелированной спинки кровати.
– Ну? – говорил Воспитатель весело. Хриплое дыхание цедилось сквозь его щербатые зубы, как через сито. – Будешь показывать мне танцы своей любимой родины?
Он подходил ко мне. Его лицо отсвечивало дегтем и смолью. Красно, будто у волка, горели зрачки. Он клал ладони на мои колени и раздвигал их. Юбка с хрустом рвалась. Я как бы видела себя со стороны его глазами: вот лежит в полумраке на скрипучей койке беспомощная девчонка, маленькая курочка, и ее ощупывают, исследуют, как в лупу, придирчиво разглядывают, прежде чем… Прежде чем что? Страх собирался в комок, и комок бился в горле подбитым из рогатки воробьем. Что он сделает с тобой, девочка? Он, мужик и издеватель, вдесятеро сильнее тебя? Ты даже не сможешь закричать – он всунет кулак тебе в зубы.
И я действительно не смогла закричать, когда он, испытав меня мукой неведения, тяжело и бесповоротно навалился на меня.
Мое зрение вышло из меня и наблюдало происходящее сверху, из-под потолка с тусклой красной лампой. Мое зрение видело: девочку рвут грубыми руками надвое, и мышцы над локтями мужика бугрятся; она бьется; пытается вырваться; ее придавливают всей тяжестью мужичьего тела к железной панцирной сетке ходящей ходуном койки; чужие зубы кусают ее грудь; ей больно, она хочет закричать, и волосатый кулак влезает в ее распяленный рот, чтобы заткнуть рвущийся наружу крик, и бедное зрение безучастно, отдельно от тела, продолжает видеть, как торчат, по обе стороны подпрыгивающей, страшно колышащейся мужской туши нежные и тощие девчоночьи ноги – ах, худая ты, курочка, плохо в Воспитательном доме кормят тебя. Кому ты когда понравишься. Да никому. Благодари Бога, что этот битюг и мучитель избавил тебя навсегда от веры в любовь. От мечты о счастье.
Зрение видело копошенье двух тел, но не слышало стоны. Я плакала. Слезы медленно стекали по моим щекам, красные слезы, красные капли. Боль внутри меня росла и ширилась. Черная простыня была вся в каплях красных слез.
Воспитатель долго, с отвратительным кряхтением, танцевал на растерзанной мне животом, ребрами, руками и ногами. Отросток внизу брюха Воспитателя, сделавший мне больно, я хотела оторвать, после того как он, сопя, вскочил с моего распятого тельца и стал заправлять черную рубаху в черные брюки. Я протянула птичью лапку руки, схватила воздух. Воспитатель отпрянул, больно ударил меня по руке кулаком.
– Ишь, что задумала, стервочка, – злобно сказал он. – Ты думаешь, ты тут последний раз? Ты еще потанцуешь мне тут всякие танцы. И твои мерзкие подружки тоже. Видишь ли, – он приблизил свое поганое, пахнущее чесноком лицо к моему, – я могу только с вами, с девчонками. А с большими взрослыми бабами не могу. Я на вас падок. До вас лаком. Будешь послушной, хорошей танцоркой – куплю зимнюю шубу. Будешь дрыгаться, пытаться укусить – проходишь зиму в кацавейке. Знаешь Жаклин?… Она плюнула мне в лицо. Она ходила всю зиму в холщовой робе, в самые холода. Знаешь, что с ней?
– Что? – глупо спросила я. Мое зрение возвращалось ко мне, в мое тело, под мой исцарапанный ногтями Воспитателя лоб.
– Она умерла. Скоротечная чахотка. Двустороннее крупозное.
– А вылечить?…
– В Воспитательном доме врача не держим, – насмешливо сказал мужик, поднялся над койкой во весь рост и пнул меня коленом в голый живот. – А ты ничего курочка. Танцевать научишься. У тебя пока фантазии маловато. Деревенщина. Поганка восточная. Мы, Эроп, обучим тебя всему. Будешь плясать и фанданго, и фарандолу, и фламенко, и жигу, и ригодон, и контраданс, и тарантеллу, и карманьолу. Как миленькая. С горящими глазками. С улыбочкой на устах.
Он ткнул меня пальцем в пупок.
– Пришлю к тебе татуировщика, пока ты здесь лежишь и очухиваешься. Твой пупок похож на глаз. Пусть он выколет тебе на животе третий глаз. Будешь им щуриться и моргать на всех своих будущих любовников.
Он хрипло рассмеялся, вышел и резко, со звоном, хлопнул железной дверью.
Татуировщик, толстый, одышливый негр, не замедлил явиться. Он привязал меня к кровати за руки и за ноги – обмотал запястья и щиколотки веревками, крепко прикрутил к никелированным прутьям. Я орала. «Ори сколько хочешь, – бросил татуировщик небрежно, – здесь все равно бетонные стены.» Он вынул из котомки баночки, пузырьки, набор игл, лупу, очки, бутыль с неведомым черным раствором.
Когда он наклонился надо мной и стал наносить рисунок Третьего Глаза мне на живот, я стала извиваться, как змея, и плевать ему в рожу. Пусть я тоже, как Жаклин, заболею чахоткой и умру! Мне все равно! Ты не нарисуешь на мне Глаз! Ты убежишь отсюда сломя голову со своими дьявольскими баночками и иголочками!
Жирный негр размахнулся и ударил меня по щеке. Челюсть свихнулась у меня на сторону. Голову разодрала надвое дикая боль.
Так, со свернутой челюстью, не глядя на мое залитое слезами лицо, татуировщик и выколол на моем животе мелкими и длинными иголками Третий Глаз – на всю оставшуюся жизнь, плюясь, чертыхаясь и хрипя, стараясь вовсю, ибо Воспитатель ему хорошо заплатил, – всаживая иглы мне под кожу с изуверством и жестокостью истинного мастера, трудясь в поте лица, насвистывая сквозь зубы карнавальные песенки, – бедный кафр, он был всего лишь раб, как и я, он выполнял приказание, он покупал хлеба и мяса на деньги, что заплатили ему за мой исколотый чернильными иглами девчоночий живот. Закончив работу, он промокнул мне пузо обрвком моего разодранного платья и засмеялся, переводя дух.
– Давай подбородок тебе поставлю на место!
Он рванул мне вывихнутую челюсть, вцепившись в нее обеими руками, так, что искры посыпались из глаз моих, исчезая в кромешной тьме бессознанья.
Воспитатель уводил Мадлен в черную комнату часто. Приступы похоти накатывали на него внезапно. Она измучилась. Она задумала бежать. Побег был неосуществимой мечтой многих девчонок в Воспитательном доме. Никто из девочек не знал, куда потом, повзрослев, исчезают воспитанницы. Ходили слухи, что их продавали на содержание богатым дядькам, в веселые дома; кое-кто поговаривал, что особо здоровеньких и крепеньких увозили в больницы, и там… Что там, договаривать боялись. Делали круглые, страшные глаза. Прижимали палец ко рту. Острые скальпели, разрез, еще разрез, красные полосы, багряные разводы… бьющиеся в резиновых руках, свежие, молодые потроха… За это платят большие деньги. Очень большие. Какие? А вот тебе никогда не догадаться, какие. Ты и цифры-то такой не знаешь.
А если знаю?…
Ну, скажи!.. Ну, скажи!..
Сто тысяч миллионов миллиардов. Вот сколько.
Сцепленные намертво зубы, мрачный взгляд. Она, хорошенькая, не подозревающая о том, что ее славянские русые волосы отрастают густо и вьются крупными кольцами, охватывая золотой шапкой гордую голову, что у нее ярко-синие, как январское небо в солнечный день, глаза – как зимнее, ослепительное небо над сугробами, над золотыми куполами белых родных церквей, над голубями, клюющими семечки на грязном снегу под ногами у рыночных торговок, у офицеров со строгой выправкой, у старых монахов с котомками за плечами… – в Воспитательном доме не было зеркал, чтобы девочки не разбили их нарочно и не подобрали осколки, используя их вместо ножей, – воображала себя угрюмой и злой старухой, так насквозь прочернела ее душа. Молодость пыталась брать свое. Они придумали праздник, карнавал. Воспитателю не скажем!.. Тайком, под подушками и простынями холодных палат, пропахших хлоркой – полы уборщица мыла всегда с порошками, во избежание зловредной заразы: культура Эроп!.. – мастерили и прятали маски, вышивали их «жемчужинами» и «сапфирами» – похищенными в каптерках канцелярскими кнопками и отодранными от халатов и лифчиков пуговицами и крючками. Сшивали из дырявых простынок, разрывая их на лоскутья, к вящему отчаянию лысой кастелянши, царские наряды – атласные накидки, горностаевые мантии.
– Мадлен… а Мадлен… Слышишь… Я придумала еще одну маску…
– Какую?…
– Лисью… я хочу сделать себе маску лисицы… Ведь из лесу в Рождество приходят лисы, волки и медведи… они садятся вокруг Санта-Клауса и Люсии, под елку, и прямо к их мордам ставят трехслойный торт, украшенный горящими свечами…
– А сколько свечей нужно?…
– Тс-с-с… Тетка Эрих идет!..
– Мимо двери прошла…
– …столько, сколько лет от Рождества Христова мы празднуем…
– А елка у нас будет, девочки?…
– Господин Воспитатель пообещал…
– Фью-у-у-у… Он с нас за эту елку… – злобный хохоток, смех… – три шкуры в черной комнате сдерет!
Девочки, все до единой изнасилованные Воспитателем, содвинули русые, каштановые, черные головки над мятыми простынями и верблюжьими вытертыми одеялами, над корзинами с грязным бельем, над дожелта выскобленными уборщицей половицами.
В руках мелькали иголки с нитками, обрезки бумаги, штапельные и холщовые лоскутки. Той, кому удавалось раздобыть в недрах Воспитательного дома бархатный лоскуток, завидовали черной завистью.
Мадлен не шевелилась, глядя в черное, просвеченное ночными уличными фонарями пространство мертвой палаты.
Она думала: вот она убежит, вот ее обнимет свобода, и она навсегда забудет ненавистный Дом, койку в черной комнате, надсадные крики тухлого раздатка.
– Куда ты глядишь, Мадлен?… Очнись!.. Я тебя еще раз спрашиваю: как ты думаешь, в какой одежде ходил царь волхвов?… Ну, волхвиный царь, который привел волхвов к хлеву, где рожала Мария?…
– Не знаю… откуда я знаю…
– Зато я знаю! – Гордый, надменный шепот, горящие во тьме радужки веселых глаз. – У него была белая борода, он был старик, и носил золотую корону, а одежды у него были пошиты из нежно-голубого атласа и синего бархата, расшитого жемчугами!.. Потому что он был еще и звездочет, и наряд себе сшил цвета звездного неба!..