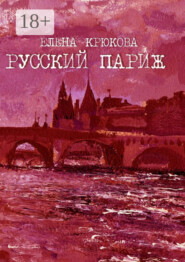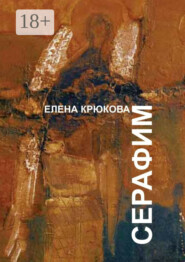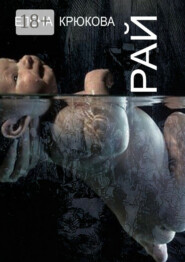По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беллона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За водой идти далеко. Три километра. Так папа говорит, что три. Мама же машет рукой и шепчет: все четыре. Мы возим воду на саночках в большом ведре, ведро плотно закрываем крышкой и завязываем тряпками, чтобы как можно меньше воды на снег пролилось.
Вот это же надо, дома ни капли воды, дожили. А баба Клава вдруг бормотала-бормотала тихонько, да вдруг как крикнет на всю квартиру: пить! Я вздрогнула, я шкатулку бабы Клавы в руках держала, расписную, там на черном фоне сидят русские красавицы и прядут пряжу. Шкатулка упала на пол и треснула. Я быстро спрятала ее в шкаф. И меня посетила преступная мысль: а вдруг баба Клава умрет – и не заметит, что я ее шкатулку попортила?
Я подумала об этом совершенно спокойно. Как будто это и не я думаю, а кто-то другой за меня.
Я подошла к бабе Клаве и спросила ее: чаю хочешь?
И сама над собой посмеялась. Чай! Как странно звучит: пить чай! Мы его давно уже не пьем. Нет никакого чая, есть только кипяток, он и зовется чаем. Раньше, до войны, чай пили с вареньем, с печеньем, даже с медом. Папа привозил мед из Просека, настоящий липовый, и он был похож на золотую фольгу, так блестел. Сейчас у нас нет ничего к чаю. Ни крошки, ни корочки. Мы пьем кипяток с солью.
Соли в доме много. В магазинах ее сейчас не продают. В магазинах сейчас почти ничего не продают, хотя какие-то магазины еще работают. А у нас был запас соли, баба Клава еще до войны купила мешок соли и хранила его в Вяткиных сараях. Война началась, и мы перетащили мешок домой.
Ну, дорогой дневничок мой, надо мне тепло одеваться, укутываться в бабы Клавину шаль, ноги всовывать в валенки и идти за водой. На улице такой мороз – ресницы покрываются инеем, выйдешь и ослепнешь. И не дойдешь. Ноги даже в валенках замерзнут, станут как кочерыжки, и ты упадешь по дороге, и тебя никто не поднимет – уже вечер, темно, и людей мало. И будешь так лежать, и медленно замерзать.
А все равно идти надо. Воды нет. Придет мама с фабрики, захочет горячего питья. Потом придет папа с завода, без сил. Он иногда приходит и валится на пол прямо у порога, и костыль у него падает с грохотом, и он, как баба Клава, только кричит: «Пить!»
Ну что же, пойду. Если бы я верила в бога, я бы ему помолилась. Но бога никакого на самом деле нет, нам в школе всю правду рассказали.
[дитя лилиана]
Я очень рано помню себя. И первое, что помню, не лица, не предметы: запахи и звуки.
Голос, он поет. Песню помню. Она широкая, как небо, и такая же светлая. Голос льется, льется прямо в меня, как в пустой кувшин, и наполняет меня до краев.
– Лодка моя легка, весла большие!.. Санта Лючия… санта… Лючия-а-а-а!
Песня кончается, и я прошу женщину ее повторить.
– Пожалуйста, еще! Еще раз! Ну!
– Что ты понукаешь, Лили! Я тебе не лошадь! Где-то на взморье… ветер чуть дышит… Легкий зефи-и-и-ир… парус колышет!
Старательно допев песню до конца, певица бесцеремонно берет меня на руки, будто я мяч или ракетка для лаун-тенниса, и переносит из кресла в кровать.
– А теперь спать, Лили! Ты мне за день надоела. Хуже тарантула! Ты совала свои лапы везде! Ты разбила сегодня кувшин с молоком! Хозяин меня убьет! Он подумает – я вру и сваливаю все на тебя! Он нипочем мне не поверит!
Надо мной, смирно сидящей в кресле, над моей беловолосой головой женщина трясет смуглыми тяжелыми кулаками.
Эта женщина – моя нянька, она из далекой калабрийской деревеньки, и ее зовут Маринетта. Она добрая, но иногда очень сильно кричит, орет до звона в ушах. Я не люблю, когда она кричит. Я люблю, когда она поет. Я могу слушать ее целый день. А вместо этого она заставляет меня то горох перебирать, то мастерить из бумаги бесполезных остроклювых журавликов. И кувшин я разбила нарочно. Чтобы ей отомстить. Она заставляла меня пить молоко, а я молоко ненавижу больше всего на свете.
Больше моей мамы.
Ведь моя мама бросила моего отца.
И бросила меня – такую красивую, славненькую, хорошую девочку. Совсем маленькую. У моей мамы сердца нет, так говорит нянька Маринетта.
Я ее уже потихоньку забываю. Думать о ней не хочу.
И не думаю уже. Почти не думаю. Ну совсем немножко. Самую малость.
А мой папа сначала пил вино, пил все подряд – и красное кьянти, и тосканское синее вино, и крепкую граппу, – а потом стал приводить домой новую женщину. Не женщину даже, а девушку. Не девушку, а совсем девчонку. Хилая грудка, тощий задок. Папа валил ее на диван и раздевал, срывал с нее тряпки, а Маринетта вбегала, всплескивала руками и вопила: «При ребенке?! При ребенке?! Побойтесь Бога, синьор Николетти! Побойтесь Бога!»
И мой отец, лежа, как на пляжном лежаке, на худой девице, оборачивал к няньке голову и выплевывал презрительно: заткнись, Бога нет, и счастья нет. Есть только жизнь, и я хочу жить, а не прозябать, ясно?!
У меня белые волосы, как у бедной мамы. У меня зеленые глаза, как у беглой мамы. Я очень похожа на маму, поэтому папа так ненавидит меня. Часто он берет меня за шкирку, поднимает в воздух, как больного щенка, и долго рассматривает. Будто бы на мне черные пятна, поганые корки. Будто бы я болею оспой или корью, и на моей коже красная вредная сыпь.
Ты как она, цедит отец, ты просто копия негодяйки Оливии. Вторая Оливия! Гадина! Ну я и влип, созерцать ее наглую рожу всю жизнь, в облике этого отродья! Он держал меня, и воротник врезался мне в горло, и я задыхалась, и я думала – вот сейчас он убьет, задушит меня. Или ударит по голове чем-то тяжелым – книгой, кочергой; да просто кулаком. Я такая маленькая, тощенькая. Я умру сразу.
Отец швырял меня на продавленный диван. Пружины охали. А я молчала.
Диван, весь в винных пятнах, в белой слизи, в блевотине. Отец напаивает допьяна худую девчонку, она пьет много и жадно, оглушительно хохочет, потом ее рвет прямо на диван, она не успевает добежать до отхожего места, вставляет себе два пальца в рот, закатывает глаза, и меня страшат ее вывороченные синие белки.
Отец нанял мне няньку, чтобы я не осталась без заботы и ухода. Он сам редко когда подходил ко мне – Маринетта и купала меня, и кормила, и выводила гулять, как собачку, на поводке – застегивала на моей грудке ремень и прицепляла настоящий собачий поводок, чтобы я не убежала далеко. Потому что однажды я убежала. И отец вызвал полицию, чтобы меня найти. А я сидела за каменными домами Саккопасторе, скрючившись, на корточках, за валунами, за густыми кустами, и зубы сжала, чтобы не кричать, и повторяла себе: я не вернусь в этот гадкий дом, не вернусь никогда больше, не вернусь.
Но у полицейских были собаки с хорошим, острым нюхом, и меня отыскали, и схватили, и громадный как шкаф полицейский нес меня домой на руках, и он него пахло псиной. Я спросила, как называется штука у него на боку. Он важно пошевелил усами и сказал: «Двуствольный пистолет-пулемет, да не про твою честь». И захохотал – басом, раскатисто, обидно, и у него изо рта пахло вином.
Меня принесли домой, и отец выхватил меня из рук у толстого полицейского. Я думала – он меня расцелует на радостях, а он бросил меня на диван и избил. Своей тростью. Крепко избил, до крови. Маринетты дома не было, она ушла на рынок за едой, и отец распоясался. Я сначала кричала, а потом не могла кричать, только раскрывала рот. Я и отец. Отец и я. И больше никого.
Когда он занес трость, чтобы ударить меня еще раз, я закрыла глаза и прошептала ему:
– Убей меня. Ну, убей.
И он услышал.
Выронил трость.
Я открыла глаза и увидела, как его глаза вылезают из орбит. Наверное, до него дошло, что он наделал.
Он намочил полотенце в холодной воде и вытирал с меня кровь, с моих щек и губ, с рук, ног и груди. Когда он схватил трость еще раз, я распухшими губами прошептала: нет! А он выставил колено вперед и сломал трость об колено. Я услышала треск и опять закрыла глаза. Все поплыло и уплыло далеко, во тьму.
А потом пришла Маринетта, и отец смущенно говорил ей в коридоре, я слышала: ты знаешь, девочка заболела, она вышла гулять во двор без спросу, и ее покусала собака, ты с ней поосторожней. Маринетта влетела в комнату, бросилась ко мне. Опустила сумки с провизией на пол. Из сумок торчали стрелы зеленого лука и пучки сельдерея. Маринетта ощупала меня, заставила показать язык, потрогала синяки у меня на лице.
– Святая мадонна, да ее кто-то сильно побил! Уж не вы ли, синьор?
Маринетта обернулась к отцу. Перед ее носом мотался отцов кулак.
– Кому скажешь – берегись.
И моя нянька вскочила, вытирая ладони о юбку, и приседала, и кланялась, и бормотала: да что вы, синьор Николетти, да никогда, да вот вам честное слово, да клянусь святой Варварой, святым Иосифом и всеми на свете святыми, никому, никогда.
А по улице, мимо нашего дома, мимо нашего балкона под полосатой маркизой, шли люди, они громогласно разговаривали, пьяно смеялись и горланили песни, и я слышала, они поют: Муссолини наш вождь, Муссолини солнце наше, Муссолини, веди нас к победе, веди!
И моя Маринетта не знала такой песни.
[юноша гюнтер]
На фарфоровой тарелке с золотым ободком лежала жареная курица.
Она лежала так изысканно и беззащитно – ножки врастопырку, кожица коричневая чуть подгорела, не сильно, а слегка, в самый раз, – что Гюнтер сглотнул слюну, взмахнул вилкой, как дирижерской палочкой, и понял: этот обед опять праздничный, как все и всегда в его доме. Правда, этот праздник часто попахивал театром, ну да ладно, это уже мелочи; главное, все торжественно, это симфония, это неизвестный Моцарт, это с ног сшибающий Вагнер.
Вот это же надо, дома ни капли воды, дожили. А баба Клава вдруг бормотала-бормотала тихонько, да вдруг как крикнет на всю квартиру: пить! Я вздрогнула, я шкатулку бабы Клавы в руках держала, расписную, там на черном фоне сидят русские красавицы и прядут пряжу. Шкатулка упала на пол и треснула. Я быстро спрятала ее в шкаф. И меня посетила преступная мысль: а вдруг баба Клава умрет – и не заметит, что я ее шкатулку попортила?
Я подумала об этом совершенно спокойно. Как будто это и не я думаю, а кто-то другой за меня.
Я подошла к бабе Клаве и спросила ее: чаю хочешь?
И сама над собой посмеялась. Чай! Как странно звучит: пить чай! Мы его давно уже не пьем. Нет никакого чая, есть только кипяток, он и зовется чаем. Раньше, до войны, чай пили с вареньем, с печеньем, даже с медом. Папа привозил мед из Просека, настоящий липовый, и он был похож на золотую фольгу, так блестел. Сейчас у нас нет ничего к чаю. Ни крошки, ни корочки. Мы пьем кипяток с солью.
Соли в доме много. В магазинах ее сейчас не продают. В магазинах сейчас почти ничего не продают, хотя какие-то магазины еще работают. А у нас был запас соли, баба Клава еще до войны купила мешок соли и хранила его в Вяткиных сараях. Война началась, и мы перетащили мешок домой.
Ну, дорогой дневничок мой, надо мне тепло одеваться, укутываться в бабы Клавину шаль, ноги всовывать в валенки и идти за водой. На улице такой мороз – ресницы покрываются инеем, выйдешь и ослепнешь. И не дойдешь. Ноги даже в валенках замерзнут, станут как кочерыжки, и ты упадешь по дороге, и тебя никто не поднимет – уже вечер, темно, и людей мало. И будешь так лежать, и медленно замерзать.
А все равно идти надо. Воды нет. Придет мама с фабрики, захочет горячего питья. Потом придет папа с завода, без сил. Он иногда приходит и валится на пол прямо у порога, и костыль у него падает с грохотом, и он, как баба Клава, только кричит: «Пить!»
Ну что же, пойду. Если бы я верила в бога, я бы ему помолилась. Но бога никакого на самом деле нет, нам в школе всю правду рассказали.
[дитя лилиана]
Я очень рано помню себя. И первое, что помню, не лица, не предметы: запахи и звуки.
Голос, он поет. Песню помню. Она широкая, как небо, и такая же светлая. Голос льется, льется прямо в меня, как в пустой кувшин, и наполняет меня до краев.
– Лодка моя легка, весла большие!.. Санта Лючия… санта… Лючия-а-а-а!
Песня кончается, и я прошу женщину ее повторить.
– Пожалуйста, еще! Еще раз! Ну!
– Что ты понукаешь, Лили! Я тебе не лошадь! Где-то на взморье… ветер чуть дышит… Легкий зефи-и-и-ир… парус колышет!
Старательно допев песню до конца, певица бесцеремонно берет меня на руки, будто я мяч или ракетка для лаун-тенниса, и переносит из кресла в кровать.
– А теперь спать, Лили! Ты мне за день надоела. Хуже тарантула! Ты совала свои лапы везде! Ты разбила сегодня кувшин с молоком! Хозяин меня убьет! Он подумает – я вру и сваливаю все на тебя! Он нипочем мне не поверит!
Надо мной, смирно сидящей в кресле, над моей беловолосой головой женщина трясет смуглыми тяжелыми кулаками.
Эта женщина – моя нянька, она из далекой калабрийской деревеньки, и ее зовут Маринетта. Она добрая, но иногда очень сильно кричит, орет до звона в ушах. Я не люблю, когда она кричит. Я люблю, когда она поет. Я могу слушать ее целый день. А вместо этого она заставляет меня то горох перебирать, то мастерить из бумаги бесполезных остроклювых журавликов. И кувшин я разбила нарочно. Чтобы ей отомстить. Она заставляла меня пить молоко, а я молоко ненавижу больше всего на свете.
Больше моей мамы.
Ведь моя мама бросила моего отца.
И бросила меня – такую красивую, славненькую, хорошую девочку. Совсем маленькую. У моей мамы сердца нет, так говорит нянька Маринетта.
Я ее уже потихоньку забываю. Думать о ней не хочу.
И не думаю уже. Почти не думаю. Ну совсем немножко. Самую малость.
А мой папа сначала пил вино, пил все подряд – и красное кьянти, и тосканское синее вино, и крепкую граппу, – а потом стал приводить домой новую женщину. Не женщину даже, а девушку. Не девушку, а совсем девчонку. Хилая грудка, тощий задок. Папа валил ее на диван и раздевал, срывал с нее тряпки, а Маринетта вбегала, всплескивала руками и вопила: «При ребенке?! При ребенке?! Побойтесь Бога, синьор Николетти! Побойтесь Бога!»
И мой отец, лежа, как на пляжном лежаке, на худой девице, оборачивал к няньке голову и выплевывал презрительно: заткнись, Бога нет, и счастья нет. Есть только жизнь, и я хочу жить, а не прозябать, ясно?!
У меня белые волосы, как у бедной мамы. У меня зеленые глаза, как у беглой мамы. Я очень похожа на маму, поэтому папа так ненавидит меня. Часто он берет меня за шкирку, поднимает в воздух, как больного щенка, и долго рассматривает. Будто бы на мне черные пятна, поганые корки. Будто бы я болею оспой или корью, и на моей коже красная вредная сыпь.
Ты как она, цедит отец, ты просто копия негодяйки Оливии. Вторая Оливия! Гадина! Ну я и влип, созерцать ее наглую рожу всю жизнь, в облике этого отродья! Он держал меня, и воротник врезался мне в горло, и я задыхалась, и я думала – вот сейчас он убьет, задушит меня. Или ударит по голове чем-то тяжелым – книгой, кочергой; да просто кулаком. Я такая маленькая, тощенькая. Я умру сразу.
Отец швырял меня на продавленный диван. Пружины охали. А я молчала.
Диван, весь в винных пятнах, в белой слизи, в блевотине. Отец напаивает допьяна худую девчонку, она пьет много и жадно, оглушительно хохочет, потом ее рвет прямо на диван, она не успевает добежать до отхожего места, вставляет себе два пальца в рот, закатывает глаза, и меня страшат ее вывороченные синие белки.
Отец нанял мне няньку, чтобы я не осталась без заботы и ухода. Он сам редко когда подходил ко мне – Маринетта и купала меня, и кормила, и выводила гулять, как собачку, на поводке – застегивала на моей грудке ремень и прицепляла настоящий собачий поводок, чтобы я не убежала далеко. Потому что однажды я убежала. И отец вызвал полицию, чтобы меня найти. А я сидела за каменными домами Саккопасторе, скрючившись, на корточках, за валунами, за густыми кустами, и зубы сжала, чтобы не кричать, и повторяла себе: я не вернусь в этот гадкий дом, не вернусь никогда больше, не вернусь.
Но у полицейских были собаки с хорошим, острым нюхом, и меня отыскали, и схватили, и громадный как шкаф полицейский нес меня домой на руках, и он него пахло псиной. Я спросила, как называется штука у него на боку. Он важно пошевелил усами и сказал: «Двуствольный пистолет-пулемет, да не про твою честь». И захохотал – басом, раскатисто, обидно, и у него изо рта пахло вином.
Меня принесли домой, и отец выхватил меня из рук у толстого полицейского. Я думала – он меня расцелует на радостях, а он бросил меня на диван и избил. Своей тростью. Крепко избил, до крови. Маринетты дома не было, она ушла на рынок за едой, и отец распоясался. Я сначала кричала, а потом не могла кричать, только раскрывала рот. Я и отец. Отец и я. И больше никого.
Когда он занес трость, чтобы ударить меня еще раз, я закрыла глаза и прошептала ему:
– Убей меня. Ну, убей.
И он услышал.
Выронил трость.
Я открыла глаза и увидела, как его глаза вылезают из орбит. Наверное, до него дошло, что он наделал.
Он намочил полотенце в холодной воде и вытирал с меня кровь, с моих щек и губ, с рук, ног и груди. Когда он схватил трость еще раз, я распухшими губами прошептала: нет! А он выставил колено вперед и сломал трость об колено. Я услышала треск и опять закрыла глаза. Все поплыло и уплыло далеко, во тьму.
А потом пришла Маринетта, и отец смущенно говорил ей в коридоре, я слышала: ты знаешь, девочка заболела, она вышла гулять во двор без спросу, и ее покусала собака, ты с ней поосторожней. Маринетта влетела в комнату, бросилась ко мне. Опустила сумки с провизией на пол. Из сумок торчали стрелы зеленого лука и пучки сельдерея. Маринетта ощупала меня, заставила показать язык, потрогала синяки у меня на лице.
– Святая мадонна, да ее кто-то сильно побил! Уж не вы ли, синьор?
Маринетта обернулась к отцу. Перед ее носом мотался отцов кулак.
– Кому скажешь – берегись.
И моя нянька вскочила, вытирая ладони о юбку, и приседала, и кланялась, и бормотала: да что вы, синьор Николетти, да никогда, да вот вам честное слово, да клянусь святой Варварой, святым Иосифом и всеми на свете святыми, никому, никогда.
А по улице, мимо нашего дома, мимо нашего балкона под полосатой маркизой, шли люди, они громогласно разговаривали, пьяно смеялись и горланили песни, и я слышала, они поют: Муссолини наш вождь, Муссолини солнце наше, Муссолини, веди нас к победе, веди!
И моя Маринетта не знала такой песни.
[юноша гюнтер]
На фарфоровой тарелке с золотым ободком лежала жареная курица.
Она лежала так изысканно и беззащитно – ножки врастопырку, кожица коричневая чуть подгорела, не сильно, а слегка, в самый раз, – что Гюнтер сглотнул слюну, взмахнул вилкой, как дирижерской палочкой, и понял: этот обед опять праздничный, как все и всегда в его доме. Правда, этот праздник часто попахивал театром, ну да ладно, это уже мелочи; главное, все торжественно, это симфония, это неизвестный Моцарт, это с ног сшибающий Вагнер.