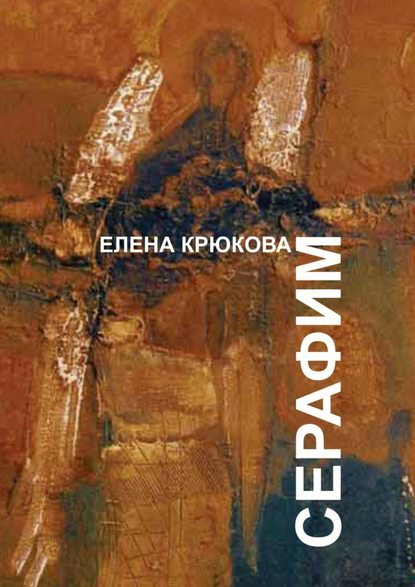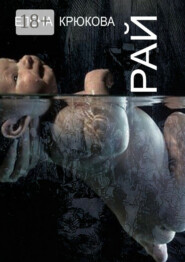По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Серафим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И ножом на сковороде стерлядку перевернул, чтоб прожарилась вся.
Сладкий дух жареной рыбы над столом носился.
Над дощатым столом, укрытом простой, кое-где дырявой холстиной.
Андрей блестел дикими, как у зверя, глазами; черная борода все его лицо, как озерная ряска, затянула.
Он раздувал ноздри. Он нюхал воздух без смерти.
Он не видел различья: так же сладко пахло жареной рыбой; так же кисло, горячо пахло свежим, только из печи, хлебом; так же пахло керосином пролитым; так же пахло ягодой спиртовой, забродившей – из громадной, на краю стола, винной бутыли.
Это Петр приказал достать из подпола четверть. Во славу Ужина Святого.
Он молчал. И молчали все. Горело красным подземным камнем, прозрачным, вино в бутыли.
Он прошлепал босыми ногами – на половицах отпечатались мокрые следы – и сел за стол, и Иван ухватил сковороду рогатым ухватом и поставил, с жареною стерлядкой, на стол, на чугунную, с узором, подставку.
А в блюде деревянном уж лини и караси медными, маслеными боками сверкали.
Все сверкало изнутри: огонь за стеклом лампы, мертвая сладкая рыба, наливка в бутыли.
Лица светились. Глаза горели. Все было – жар и уголь. Сапфирами мерцали в печи головешки.
Иван ударил себя по лбу: «Эх, забыл я!..» – и выставил на стол кринку с молоком ледяным, только из погреба.
Он сел во главе стола. И все медленно, важно расселись.
Рядом с ним сели Андрей и Иван. Щеки Ивана алели от восторга. Он любил Его в этот миг больше жизни.
А Андрей блестел зверино глазами-углями из сплошной бороды болотной. И зубами блестел, усмехаясь. И все воздух жадно нюхал, нюхал.
Так сидели молча, руки на стол положив, и складки рубах вниз лились, и до полу, до сосновых, гладко струганных половиц падали тяжкие складки хитонов.
Ждали.
И сказал Иисус:
– Трапеза наша да будет благословенна!
Горячий хлеб в руки взял, обжегся, с улыбкой на хлеб да на пальцы подул обожженные.
Все молчали. Молчал Иуда. Сжимал в кармане штопаных портов кошелек кожаный, из кожи козла старого, пахучий-вонючий. На рынке купил по дешевке. Хорошо, не дырявый.
И сказал Иисус:
– Примите! Ядите! Сие есть Тело Мое! – и хлеб в сильных пальцах легко преломил. – Ныне за вас, любимых, ломимое… во оставление грехов…
Молча взял у Него из рук кусок чернобородый Андрей.
Молча взял кусок Петр, слепо мотнув метельной бородой.
Молча взяли куски свои из рук у Него Фома и Варфоломей. Филипп и Яков.
И другие тоже молча, склонив бычьи лбы, взяли.
И кудлатые, лысые, курчавые, косматые, голые головы их наклонились над хлебом.
И ноздри дух хлебный вдохнули.
Кровь ли вдохнули?! Вопли войны?! Смрадный дух тысяч трупов?!
…запах молочный, ягодный Того, Кто только на свет народился…
И сказал Иисус:
– Пийте из Нея вси! – и взял обеими руками бутыль с домашним вином. – Сие есть Кровь Моя, еже за вы проливаемая… во оставление грехов…
Все молча подвинули граненые стаканы. Он разлил в них вино.
И Иван следил, как булькала, перевитая, густо-алая струя; и горели его глаза.
Он все запоминал, Иван. Он дышал восторженно, часто.
Все молча подняли стаканы, сдвинули. Стеклянный стук в избе раздался.
Один Иуда, однако, стакан свой не поднял.
Так и сидел, гомонок свой козлиный в кармане сжимая в кулаке потном.
И сказал Иисус:
– Что ж не едите? Не пьете?
И выпили мужики! И теплым хлебом, душистым, небесную сласть зажевали!
И смеялся Иисус, на первое Причастие глядя.
А потом встал из-за стола и сказал:
– Ухожу я от вас! И – остаюсь с вами!
Иван растаращил глаза. Он – не понял!
– Как это уходишь Ты, Господи?!
Крик мальчика, резкий, горький, повис в избе, как крик одинокой цапли на болоте, в камышовых плавнях.
– Ты ж жареной рыбы еще не поел!..