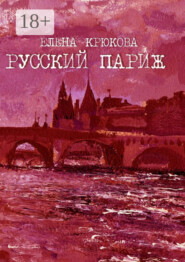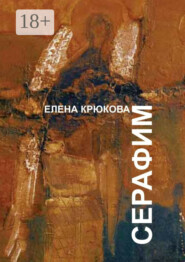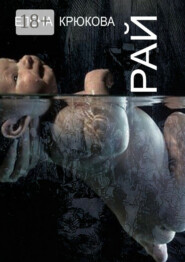По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Старые фотографии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Где, позвольте спросить?
Изморщенные, цвета дубовой коры, жесткие руки мазали старым маслом старый хлеб. Старик делал Кольке новый бутерброд.
– В… военно-морском… училище имени Фрунзе!
– Вольно! ? Старик хлеб с маслом Кольке протянул. ? Будет вам сие училище!
«Колдун, чи шо?..»
– А вы это… Ипполит…
– Сергеич.
– Ипполит Сергеич… почему все время мне – «вы» говорите?
Совьи глаза, глубоко глядят. Далеко глядят. Печально глядят. Знают все. Ничего не отвратят. Все понимают. За все благодарят. Все любят. Все – прощают.
– Хорошо… сынок. Я буду тебе говорить «ты».
Кольке петля горького воздуха глотку захлестнула.
Старик понимающе кивнул, по плечу похлопал.
Ничего не сказал. Не утешил. Не насмеялся. Брови не свел грозно.
Чисто, до светлого ангельского дна, до дня, где кровь ползла по виску его отца, по груди его матери, сияли старческие, всевидящие глаза – живопись такие глаза видят, и любовь видят, и войну – да, войну, – и море видят, и корабли, и что-то еще такое в туманной дали видят, о чем нельзя сразу говорить людям: люди, только пожив всласть, все сполна пережив, лишь на земле дорогу из конца в конец пройдя, могут увидеть то, что сейчас видит старик, питерский ботик, странный человек, ? ходит по земле, по разведенным мостам, и не падает, как чугунный фонарь, ? по воздуху ходит, по пожарам, по смертям, по пеленкам грудничков, по глине могил, ? ходит и ходит, и курит, руку отводя, и в чистый хрусталь снегов и метелей пепел, пепел ссыпает.
Ипполит Сергеевич Кузьмин хлопотал за Кольку, и Кольку во Фрунзенское военно-морское училище – взяли.
Сам директор взял, как Колька и мечтал.
Мечты сбываются.
Так мамке он и отписал:
«Здравствуйте, все дорогие родные, мама Евдокия Семеновна, отец Иван Иванович, сестра Зоя и все любимые братья! Я в Ленинграде хорошо устроился. Приняли меня в Военно-Морское Училище. Я теперь курсант. Живу я в общежитии. Мне морскую форму выдали. У меня есть уже бескозырка, потом летняя форма №1 и зимняя форма №2. Харч в столовке знатный дают, все время хорошая каша, пшенная, когда перловая, когда рисовая, когда ячневая, и с маслом. Особенно мы все любим гречневую кашу. На занятиях вроде все понимаю. Особенно нравятся уроки географии. Нам учитель рассказывает про Мировой Океан. Еще очень нравится Минное дело. Нас в этом году обещают послать на практику на линкоры. Очень жду этого момента! Дорогая мама Евдокия Семеновна, кланяйтесь всем соседям и родным, не скучайте обо мне, приеду домой на побывку, не узнаете меня! Я тут уже откормился и стал настоящим бравым моряком! Умею уже бороться, и стрелять уже умею хорошо, нас водят на стрельбища. Спим все крепко, побудка ранняя. А очень помог мне поступить в Училище один очень, очень хороший человек. Я потом Вам о нем напишу, или приеду расскажу. Всех крепко целую и обнимаю! Пишите, вот адрес…»
Он никогда уже не скажет ни матери, ни отцу, ни братьям, ни Зойке, никому в жизни, что смешной и странный старик, морщинистый ангел, умер на другой день после того, как Кольку оформили во Фрунзенку курсантом, и он стал, как в Питере говорят, фрунжак.
Он только запомнит бесконечную лестницу наверх, и опасно, больно распахнутую дверь в мансарду, и веселую пляску пыли в остром, как от маяка, солнечном луче, и лежащего на спине на продавленном диване Ипполита Сергеевича – рука-коряга на груди, в судорожно сжатых пальцах дотлевшая папироса, на столе догоревшая свеча, и банка шпрот пустая, одно темно-золотое, горькое масло на дне, и пахнет копченой древней рыбой, и пахнет морем, и смерть стоит рядом, молча и строго, и вместе с Колькой глядит на мирно лежащее тело – уснул, сморился, ангел милый, спи, дружок.
С. Н. А. с обезьянкой Сонечкой на руках
Владивосток, 1941 год
Валы катят. Огромные валы.
Океан – не море. У океана огромное, длинное дыхание.
Длинный тяжкий вдох. Бесконечный выдох.
Соль и горечь рыданья, белозубой пенной улыбки.
Стоять на берегу океана с женщиной – вот счастье.
За их спинами – далеко – белый город: отсюда он маленький, как пряник на ладони.
– Владик какой красивый, ? нежно говорит женщина.
Когда они рядом, так близко, как сейчас, хорошо видно: она старше его. Намного. Может быть, вдвое.
Она могла бы быть матерью ему.
Но это неважно.
Важно то, что она – его женщина.
Вот она стоит на берегу, с серой смешной обезьянкой на руках, и глядит вдаль.
– Да. Очень красивый. Софья!
Они обернулись обе – женщина и обезьяна.
– Да?
– Ты не замерзла? Ветер.
Она повела плечами под батистовой кофточкой. Слишком сухопарая. Чересчур, как у спортсменки, втянутый, впалый живот. Она шутила: «Ко хребту пузо присохло». Он целовал этот живот, эти крепкие, в перекатах почти мужских мышц, маленькие руки. Горячая кожа, потом прохладный, мятный провал. Однажды ночью она ему сказала: «Коля, все мы состоим из пустоты». Он слепо нашарил коробку с папиросами около изголовья, закурил, красный уголек сигареты судорожно ходил ото рта к пепельнице, качался во тьме. «Не понял». Софья приподняла уголки губ. «Молекулы. Атомы. Между ними такие огромные расстояния. Как в космосе между звездами. Мы думаем, что мы есть. На самом деле нас нет. Есть только сгущение материи. Так что не бойся смерти. Мы – пустота, и уйдем в пустоту». Он схватил ее за голые смуглые плечи, затормошил, зацеловал яростно: «И любовь – что, тоже пустота?! Да?!»
– Нет. Мне хорошо. Люблю ветер.
Шагнула к нему, и обезьянка пронзительно запищала у нее на руках, всползла выше, на плечо, и так на плече сидела, как курица на насесте, глядела круглыми умными глазками на океан.
Николай погладил Софью по щеке. Овал лица в виде дынной косточки. Брови чуть подняты к вискам. «Она похожа на японку».
– Когда твой… из похода вернется?
Подобие улыбки пробежало по бледно-розовым нервным губам.
– Уже не вернется.
Крюков отступил на шаг.
– Что…
– Да нет, ничего. Жив. ? Улыбка явственней стала. ? Просто мы расстались.
– Почему? Из-за меня? ? Ветер выносил, вил ленты бескозырки впереди его загорелого лица. ? Глупо. Ты написала ему, что полюбила другого?
Изморщенные, цвета дубовой коры, жесткие руки мазали старым маслом старый хлеб. Старик делал Кольке новый бутерброд.
– В… военно-морском… училище имени Фрунзе!
– Вольно! ? Старик хлеб с маслом Кольке протянул. ? Будет вам сие училище!
«Колдун, чи шо?..»
– А вы это… Ипполит…
– Сергеич.
– Ипполит Сергеич… почему все время мне – «вы» говорите?
Совьи глаза, глубоко глядят. Далеко глядят. Печально глядят. Знают все. Ничего не отвратят. Все понимают. За все благодарят. Все любят. Все – прощают.
– Хорошо… сынок. Я буду тебе говорить «ты».
Кольке петля горького воздуха глотку захлестнула.
Старик понимающе кивнул, по плечу похлопал.
Ничего не сказал. Не утешил. Не насмеялся. Брови не свел грозно.
Чисто, до светлого ангельского дна, до дня, где кровь ползла по виску его отца, по груди его матери, сияли старческие, всевидящие глаза – живопись такие глаза видят, и любовь видят, и войну – да, войну, – и море видят, и корабли, и что-то еще такое в туманной дали видят, о чем нельзя сразу говорить людям: люди, только пожив всласть, все сполна пережив, лишь на земле дорогу из конца в конец пройдя, могут увидеть то, что сейчас видит старик, питерский ботик, странный человек, ? ходит по земле, по разведенным мостам, и не падает, как чугунный фонарь, ? по воздуху ходит, по пожарам, по смертям, по пеленкам грудничков, по глине могил, ? ходит и ходит, и курит, руку отводя, и в чистый хрусталь снегов и метелей пепел, пепел ссыпает.
Ипполит Сергеевич Кузьмин хлопотал за Кольку, и Кольку во Фрунзенское военно-морское училище – взяли.
Сам директор взял, как Колька и мечтал.
Мечты сбываются.
Так мамке он и отписал:
«Здравствуйте, все дорогие родные, мама Евдокия Семеновна, отец Иван Иванович, сестра Зоя и все любимые братья! Я в Ленинграде хорошо устроился. Приняли меня в Военно-Морское Училище. Я теперь курсант. Живу я в общежитии. Мне морскую форму выдали. У меня есть уже бескозырка, потом летняя форма №1 и зимняя форма №2. Харч в столовке знатный дают, все время хорошая каша, пшенная, когда перловая, когда рисовая, когда ячневая, и с маслом. Особенно мы все любим гречневую кашу. На занятиях вроде все понимаю. Особенно нравятся уроки географии. Нам учитель рассказывает про Мировой Океан. Еще очень нравится Минное дело. Нас в этом году обещают послать на практику на линкоры. Очень жду этого момента! Дорогая мама Евдокия Семеновна, кланяйтесь всем соседям и родным, не скучайте обо мне, приеду домой на побывку, не узнаете меня! Я тут уже откормился и стал настоящим бравым моряком! Умею уже бороться, и стрелять уже умею хорошо, нас водят на стрельбища. Спим все крепко, побудка ранняя. А очень помог мне поступить в Училище один очень, очень хороший человек. Я потом Вам о нем напишу, или приеду расскажу. Всех крепко целую и обнимаю! Пишите, вот адрес…»
Он никогда уже не скажет ни матери, ни отцу, ни братьям, ни Зойке, никому в жизни, что смешной и странный старик, морщинистый ангел, умер на другой день после того, как Кольку оформили во Фрунзенку курсантом, и он стал, как в Питере говорят, фрунжак.
Он только запомнит бесконечную лестницу наверх, и опасно, больно распахнутую дверь в мансарду, и веселую пляску пыли в остром, как от маяка, солнечном луче, и лежащего на спине на продавленном диване Ипполита Сергеевича – рука-коряга на груди, в судорожно сжатых пальцах дотлевшая папироса, на столе догоревшая свеча, и банка шпрот пустая, одно темно-золотое, горькое масло на дне, и пахнет копченой древней рыбой, и пахнет морем, и смерть стоит рядом, молча и строго, и вместе с Колькой глядит на мирно лежащее тело – уснул, сморился, ангел милый, спи, дружок.
С. Н. А. с обезьянкой Сонечкой на руках
Владивосток, 1941 год
Валы катят. Огромные валы.
Океан – не море. У океана огромное, длинное дыхание.
Длинный тяжкий вдох. Бесконечный выдох.
Соль и горечь рыданья, белозубой пенной улыбки.
Стоять на берегу океана с женщиной – вот счастье.
За их спинами – далеко – белый город: отсюда он маленький, как пряник на ладони.
– Владик какой красивый, ? нежно говорит женщина.
Когда они рядом, так близко, как сейчас, хорошо видно: она старше его. Намного. Может быть, вдвое.
Она могла бы быть матерью ему.
Но это неважно.
Важно то, что она – его женщина.
Вот она стоит на берегу, с серой смешной обезьянкой на руках, и глядит вдаль.
– Да. Очень красивый. Софья!
Они обернулись обе – женщина и обезьяна.
– Да?
– Ты не замерзла? Ветер.
Она повела плечами под батистовой кофточкой. Слишком сухопарая. Чересчур, как у спортсменки, втянутый, впалый живот. Она шутила: «Ко хребту пузо присохло». Он целовал этот живот, эти крепкие, в перекатах почти мужских мышц, маленькие руки. Горячая кожа, потом прохладный, мятный провал. Однажды ночью она ему сказала: «Коля, все мы состоим из пустоты». Он слепо нашарил коробку с папиросами около изголовья, закурил, красный уголек сигареты судорожно ходил ото рта к пепельнице, качался во тьме. «Не понял». Софья приподняла уголки губ. «Молекулы. Атомы. Между ними такие огромные расстояния. Как в космосе между звездами. Мы думаем, что мы есть. На самом деле нас нет. Есть только сгущение материи. Так что не бойся смерти. Мы – пустота, и уйдем в пустоту». Он схватил ее за голые смуглые плечи, затормошил, зацеловал яростно: «И любовь – что, тоже пустота?! Да?!»
– Нет. Мне хорошо. Люблю ветер.
Шагнула к нему, и обезьянка пронзительно запищала у нее на руках, всползла выше, на плечо, и так на плече сидела, как курица на насесте, глядела круглыми умными глазками на океан.
Николай погладил Софью по щеке. Овал лица в виде дынной косточки. Брови чуть подняты к вискам. «Она похожа на японку».
– Когда твой… из похода вернется?
Подобие улыбки пробежало по бледно-розовым нервным губам.
– Уже не вернется.
Крюков отступил на шаг.
– Что…
– Да нет, ничего. Жив. ? Улыбка явственней стала. ? Просто мы расстались.
– Почему? Из-за меня? ? Ветер выносил, вил ленты бескозырки впереди его загорелого лица. ? Глупо. Ты написала ему, что полюбила другого?