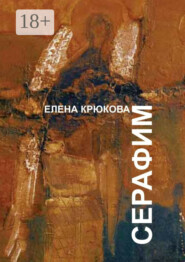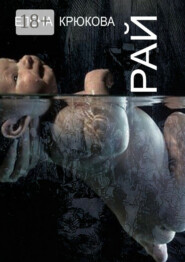По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский Париж
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И все забили в ладоши и на разные голоса закричали:
– Vive! Vive! Vive Khazakhevitch!
Поэт раскланялся. Напротив него, на другом конце бильярдного стола, стоял высокий, мощный в плечах человек, грыз густую щетку моржовых усов, все писал, писал в толстенький блокнот толстым плотницким карандашом. А, Энтони Хилл. Прикатил сюда из своей Америки. Очарован Парижем. Тоже, пройдоха, хочет его завоевать! Ах, янки, кишка тонка!
Кудрун, покачивая обширный холодец тела на странно тонких, кривых ножках, переваливаясь, как утка, с боку на бок, подошла к американцу.
– Что пишем, Эн?
Звала его просто Эн.
Хилл отвлекся от блокнота. Взял толстую руку Кудрун, нежно поцеловал.
– О чем я могу писать, Кудрун? О Париже. Париж пьянит меня. Париж – крепчайший арманьяк. Я потерял голову.
– Потерял бы ты лучше голову от какой-нибудь свежей молодки, Эн! Гляди, какая птичка! Кающаяся Магдалина!
Мадам Стэнли кивнула на Ольгу Хахульскую. Ольга мило беседовала с поэтом в пенсне. Ага, русские голубки встретились. Теперь водой не разольешь.
– Ну, на Магдалину она мало похожа. Скорее на грешную царицу Иезавель.
– Ты образован, Эн. Есть новые публикации?
– А как же. В «Le Figaro». «Domino Press» обещает издать книжку парижских рассказов.
– К черту рассказы! – Кудрун исковеркала расплывшееся лицо ужасной гримасой. – Пиши роман! Роман – это чтиво! Это будут читать и любить! Так ты завоюешь Париж! А рассказы – дерьмо! Проба пера!
Хилл хохотал, топорщил усы. Молодой, а усы седые. Она тоже вся седая, и иранской хной красит жалкие, жидкие волосенки. Зато на жирной шее – брильянты от Юкимару!
Пако Кабесон выхватил цепким глазом из гудящей, шевелящейся одним громадным блестящим, пестрым хищным телом, табачной, смеющейся толпы смуглое, с тонкими нежными чертами, лицо Ольги. Ольгина кожа еще сохраняла аргентинский загар. Он намертво въелся в нее.
«Испанка, должно быть, так смотрит: неприступно и соблазняя».
Мадам Стэнли, переваливаясь, подшагала к Ольге и взяла ее за руку. Подняла вверх Ольгину руку.
– Медам, месье! Конкурс! Конкурс!
Ольга скосила глаза на лысый затылок Кудрун – испуганно, недоуменно. Рука затекла.
– Господа, вот натура! Кто умеет держать в руках кисть и палитру – садитесь! Пишите! Награда – вот! Мой перстень! – Кудрун помахала в воздухе жирной рукой, в свете люстры блеснул огромный сине-зеленый камень, старая афганская бирюза.
– Мало! – крикнул голос из гущи гостей.
– Мало?! И – поцелуй натурщицы!
– Что вы делаете! – слабо крикнула Ольга, пытаясь высвободить руку. Кудрун держала крепко.
– Молчите, – прохрипела. – Я знаю, что делаю. Хотите прославиться? Или сдохнуть под забором? Я делаю вам имаж!
Ольга прикусила язык. Подали табурет – тот, на котором сидела и кормила младенца Женевьев Жанэ, времен Людовика Шестнадцатого. Натуру усадили. Принесли кусок алого панбархата, накинули Ольге на плечи.
– Пурпур – цвет королей!
«Красный флаг. Пролетарское знамя».
Натурщица катала язык во рту, как леденец. Отчего-то стало смешно, будто щекотно, от множества пристальных, раздевающих взглядов. Тащили мольберты, выдавливали на вонючие палитры краску из тюбиков. Напивали скипидар в плошки. Да тут царство художников! Этот конкурс – не первый! Тут всегда такой балаган!
Ее жгли глаза мужчины, похожего на смуглого ангела. Безумный взгляд, обреченный. Он быстро махал кистью по холсту, будто опаздывал, будто бежал от пожара, от гибели. Ее гладили глаза усатого франта – Боже, таких усищ не видала она никогда! Ее сверлили глаза маленького мужчинки, почти карлика, он тоже спешил, ударял кистью, как шпагой. Выпад. Еще выпад! Сраженье! Искусство – это сраженье. Кто выиграет? Кто победит?
Самый сильный, в чем вопрос.
Ольга выгнула спину. Стать танцорки, профиль святой. Красное знамя на плечах, может, она прикатила из Совдепии? Хорошо говорит по-французски, но не безупречно. Господа, глядите, как блестит плечо! Как кожура граната. Она сама похожа на гранат: смугла, и губы темно-алые, и сладкие, должно быть. Молчите, господа, работайте!
Художники работали. И время остановилось.
Опять пошло, когда Кудрун, раскачиваясь жирным колоколом, прошлась мимо выставленных на обозренье холстов.
Ее портреты. Портреты Ольги Хахульской.
Ее написали маслом на холстах настоящие художники, здесь, в Париже!
Облизнулась, как лиса. Стянула с плеч красную бархатную тряпку.
Кудрун остановилась около холста Пако Кабесона. Сдернула с толстого пальца бирюзовый перстень – и подала Пако.
Все закричали: «Пако! Пако!» Испанский карлик бросил на пол кисти и палитру и подошел к Ольге. Он ростом ей по грудь. Он победил. Бирюза Стэнли у него на руке. Поцеловать этого скотчтерьера?! Никогда!
Пако встал на цыпочки. Закинул руку Ольге за шею. Пригнул ее голову грубо. Впился губами ей в губы. Она и пикнуть не успела.
Игорь видел это. Он сидел на венском стуле за портьерой. Надвинул на лоб краденый мусульманский берет. Тень от портьеры ложилась ему на лицо и колени. Он здесь никого не знал, и его не знал никто. Узнает ли когда?
Завели граммофон. Самые модные пластинки ставили.
Шимми сменял кэк-уок, чарльстон – томное танго. О, танго Освальдо Пульезе, какое ты чудо! Женщины откидывались назад, будто хотели упасть, мужчины ловили их на лету, и женские ноги дерзко вздергивались, юбки ползли вверх, обнажая бедра. Медленно, страстно, все ближе! Это любовь, только не лежа, а стоя. Это танец тоски и признанья.
Задыхайся и танго танцуй. На том свете не потанцуешь!
Все, все – лишь здесь и сейчас. Танго страсти, а может, ты танго смерти? Если изменишь – кинжал под полой. Поглядишь на другого – застрелю! Ножи, револьверы и яд, вы перед страстью бессильны. Это все обман. Все музыка. Головы кружит.
Одни танцуют, другие беседуют. Каждому свое.
– А вы слышали, в Германии кавардак? Молодежь сбилась в новую партию.
– А, идеи фашизма! Эта мода пройдет. Нечего беспокоиться. Ну и что, Муссолини убил пять евреев и замучил десять кошек? Христа распяли – и то народ не плакал!
– Говорят, у них фюрер.
– В России вон тоже: один вождь, другой.