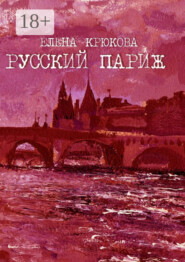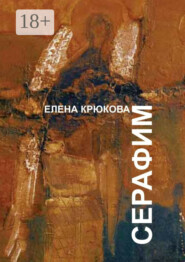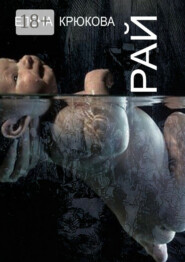По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Империя Ч
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Твоя взяла, гадина. Пусти.
Она отпустила его. Отряхнула голую руку от плеча до ладони, будто выпачкалась в чем-то противном, липком.
– Почему же ты тогда не боролась со мной там?.. у меня в апартаментах?.. почему не показывала класс?.. а вдруг ты мастер, вдруг у тебя черный пояс…
Она улыбнулась ответно, но не хитро и зло, а – неожиданно – открыто, весело.
– Потому что там был не только ты один, глупый Башкиров. Там были еще все эти твои зубастые китайчата. Они бы отделали меня по одному твоему приказу… взгляду. Я была там в западне. – Она вздохнула и отошла к зеркалу, и стала глядеться в него, задумчиво перебирая кружева на смуглой груди. – Моя песенка там была спета. А теперь я пою свою песню. Иди отсюда прочь. Не преследуй меня. Я никогда не стану твоей любовницей.
Она глядела на себя в зеркало, играла со своими нагрудными кружевами и не заметила, как он подкрался к ней сзади, закинул руку ей за горло, крепко захватил, она захрипела, он подставил ногу, повалил ее, она упала, не успев и прокричать, позвать на помощь, – как это у тебя получилось, мужик, зло подумала она, надо бы запомнить этот внезапный мастерский захват, – и там, на полу, он зацепил скрюченными пальцами ее кружевной корсаж и с силой рванул бархатную ткань вниз, швы затрещали, бархат порвался с громким треском, и смуглая красивая грудь, не стесняясь, выпорхнула наружу – а мужчина дальше, бесстыдно и грубо и жадно, оголял ее, его ногти, раздирая ткань платья, царапали ей ребра, живот, он одной рукой, согнутой в локте, держал ее за шею, не давая вырваться, заставляя хрипеть и извиваться, а другой зверино срывал с нее роскошные, царские, жалкие тряпки.
– Пусти!.. я все равно… никогда… твоей не буду…
Он отбросил в угол скомканные бархатные лоскуты. Перед ним была ее голая грудь, голый живот, – о них только мечтали ресторанные мужики Шан-Хая, ночи напролет просиживавшие в «Мажестик» и пожирающие ее, поющую на сцене, танцующую между столиков, тупыми тусклыми глазами. А она знай, плясала да пела себе. Еще бы. Знаменитость. Такие деньжищи огребать. Гляди, Башкиров, еще немного, и она будет жить лучше, чем ты, хоть ты и бандит первоклассный. Вот ее шея. Вот ее грудь. Он изогнул шею, отвернул ладонью от своего лица ее лицо – пусть уж лучше кусает ему пальцы, чем вцепится в рожу, изуродует до шрама, как тигрица!.. – и жадно, по-волчьему – так волчата припадают к соскам волчицы – присосался губами и зубами к ее вставшему дыбом черному соску.
– Ты!.. сволочь… Башкиров… никогда…
Хрипи, хрипи. Бесись. Моя взяла.
Он налег на нее всем телом. Она, вся голая, неистово билась под ним, пытаясь освободиться. Он придавил ее своею тяжестью. Вот так лежи. Дергайся. Сейчас. Она выпростала из-под него руки и отчаянно ударила его кулачками по закутанной в пиджак спине. Пробовала закричать – он поймал готовый вырваться крик, ткнул локтем ей в зубы, разбил губу. По ее лицу потекла кровь. Он вытащил из кармана, где мотался брелок, надушенный фуляр и всунул ей в рот. «Временно, – проклокотал он, – до тех пор, пока я не распорю тебя собой. А потом выну платок. Чтобы поцеловать твой кровавый ротик. Я же так хочу его. Ну!» Она билась, вздергивала ногами, пытаясь ударить его ногой, коленом между ног. Он сунул ей кулак под ребро, там, где пряталась печень. «Следов не оставлю, а убью», – выхрипнул. Она не сдавалась. Голое тело под ним металось, содрогалось, локти ударяли об пол, пятки били его по щиколоткам. Боже, почему одно и то же событье между мужчиной и женщиной Ты сделал одновременно и любовью, и ненавистью?! Если он изуродует ее, испортит ей лицо или тело – это полбеды. Она загримируется. Замажет прореху пастой, кремом, запудрит пудрой. Сломанную кость срастит. Увечье вылечит – китайские врачи совершают чудеса излеченья. Синяки, переломы – плевать! Если он искалечит ее чрево, а значит, и ее душу собою – вот где она сойдет с ума. Излечивают ли китайские чудодеи сошедших с ума?!
Люстра погасла.
Они возились на паркете, продолжали бороться. Тяжело дышали. Если б кто открыл дверь, понял бы: двое любовников играют друг с другом, решили на полу заняться любовью. Только у любовницы изо рта торчит белая окровавленная тряпица. Да щеки и подбородок любовника уже кровоточат. Женские ногти – опасное оружье. Она все же изловчилась и расцарапала ему лицо.
Он, лежа грудью на ее груди, расстегнул брюки, рукой грубо втиснулся между ее туго сдвинутых ног, молчаливо проклинающих его. Она ощутила, как мужское орудье – а сколько она видела и осязала разнокалиберных мужских орудий на женском любовном, страдальном театре войны – пытается пробить, протаранить защищаемое ею пространство, вклиниться, завладеть, овладеть. Раковина сомкнулась. Он силой, рукой, пальцами, кулаком раздвигал створы. Разодрал нежную кожу до крови. Она забилась, как в судороге.
– Я овладею тобой! Ну… еще…
– Нет… никогда!..
И, когда она поняла, что победа все равно будет за мужчиной, что его наглые пальцы, его живая дубина уже в ней, уже втыкаются в нее и разрывают, а он, дрожащий от похоти и ненависти, уже пускает слюни, торжествуя свой мужской отвратительный праздник, – когда ее ноги сжались мертвыми клещами последний раз, пытаясь зажать каменными мышцами женское беззащитное отверстие и остановить грядущий ужас униженья и боли, да ничего не вышло, таран таранил, горло хрипело, тело неистово дергалось в бессильи, – дверь распахнулась, со стуком отлетела, ударилась о стену, и в комнату влетела белая от испуга китайская девочка-служанка в белом фартучке, прижав ладошку к открытому для крика рту. Девочка застыла в немом потрясеньи, увидев на полу два извивающихся тела – хозяйкино и чужое, мужское, – закричала тонко, как цапля на болоте:
– Госпожа!.. Госпожа!.. Вы простите, что я ворвалась!.. Столь поздний час!.. Но он!.. он!.. он прорвался сюда, к вам, через все запоры и замки!.. он через главные ворота прошел!.. он как чудовище, этот старик!.. мы с Цзян пытались остановить его, куда там!.. он как ветер!.. вот он…
Девочка затравленно оглянулась. За ней, за ее спиной на пороге гостиной вырос человек. Лысый, с совершенно голым черепом старик, коричневый, изрезанный морщинами вдоль и поперек, вбежал в комнату. Лежащие на полу глядели на старика. Старик глядел на них. Его лицо светилось во тьме.
– О, Будда, слава Тебе, я успел, – пророкотал он низко, глухо, – успел. Мне было виденье. Я узнал у Будды, где это происходит. Я успел. Ты! – он протянул указательный палец к лежащему на полу навзничь Башкирову, даже не успевшему застегнуть ширинку. – Закрой на замок одежду свою. Убей вожделенье. Эта женщина – не для тебя. Встань!
Мужчина поднялся, поправляя досадливо ремень. Злоба выступила красными пятнами у него на исцарапанных скулах.
– А ты кто такой, старик? – спросил он по-китайски. – Откуда? Это дом госпожи Фудзивары. Сейчас ночь. Она делает что хочет!
– Это ты делаешь что хочешь, а не она, – строго и жестко сказал старик. – Она этого не хотела. Убирайся!
– Кто ты такой, чтобы со мной так разговаривать?!
Вместо ответа старик в темноте гостиной распахнул перед Башкировым свой старый бязевый халат.
Мужчина всмотрелся. Он смотрел долго – казалось, он рассматривает не голое тело человека, а рисунки, живопись или читает тайные записи. Закрыл глаза. Побелел – это было заметно даже в сумраке ночной залы. Поклонился. Попятился. Вышел.
Старик наклонился над женщиной, раскинувшей руки на полу, будто она была живой крест.
– Ты жива и цела, – внятно сказал он уже на другом языке, но женщина, вздрогнув, закивала головой – она знала этот язык и прекрасно поняла, что он сказал ей. – Я спас тебя. Я ухожу. Мы увидимся еще в этой жизни.
Он шагнул к двери. Та, которую называли госпожа Фудзивара, вынула испачканный кровью белый фуляр изо рта, кинула прочь и крикнула вслед уходящему:
– Кто ты! Кто же ты! Спасибо тебе!
Старик обернулся еще раз, на прощанье, и произнес медленно и раздельно, чтобы она понимала все слова:
– Я уже однажды в жизни слышал, как ты кричишь. У тебя звонкий голос. Готовься к празднику Цам. Готовь руки для крыльев.
Он сверкнул узкими стрелами глаз. Вышел вон, хлопнув резной дубовой дверью.
Девочка-служанка стояла отупело, открыв рот, прижав загорелые ручки к груди, всхлипывая, и глядела на вымазанный кровью рот госпожи.
Часть первая. Ямато
Моряк
Снежная равнина. Белая, молчащая сурово пустыня.
Я бы хотел с Тобой не встречаться. Мы и так две звезды. Мы и так – двойная звезда, крутящаяся вокруг невидимого магнита, два колокола незримого града. Град давно утонул в бездонном лесном озере. А как чисты летом нейские белые пески. Лесная речка Нея, красивая, нежная, как Ты.
Ты, Ангел мой. Зачем я встретил Тебя. Ты слишком красива и слишком нежна для пустого и злобного мира. Нет, неправда, мир не пуст и не злобен. Таким его сделали люди. Таким его и видят. Я во всем мире вижу Тебя. Верней, мир видит Тебя – моими очами.
Я бы хотел с Тобой не видаться, но приезжай. Мое поверье: не встречаю – приедет; буду встречать – не приедет никогда. Я не встречаю Тебя. Я не хожу туда, на лесную дорогу, к старой лесопилке, где золотые опилки обильно устилают могучие сугробы золотыми коврами. Ты не придешь. Ты не будешь стоять на косогоре, оглядывая посад, речку подо льдом, лесопилку, золотые сугробы, заброшенный льнозавод, корабельные сосны, краснолесье, чистое зимнее небо восторженными, широко распахнутыми глазами. Даже призрака Твоего тут не явится. Тут буду только я – уже не тело, не дух, не призрак, не ноги-руки, не мясо, не кожа, не кости: я – одна живая любовь. Одна сплошная, великая, сбывшаяся на весь свет любовь к Тебе.
Да, родная, жизнь моя исполнилась. Как я хотел ее! Как я желал ее! И вот она сбылась. Как мне жаль несбывшихся. Как я плачу, смеюсь над ними. Ты заслонила мне все, всех. Я называю Тебя тысячью имен, жизнь, и только одним именем. Я сам Тебе его дал. Сам Тебя им нарек. Крестил, как священник крестит младенца в купели.
Я так люблю Тебя, что мне кажется – так не бывает. Но это есть. И усиливается, прибывает, идет волна, вздымается цунами. Это белая цунами, и белый Божий сугроб страшно рушится на меня, забивает мне дыханье, легкие, подступает под ключицы. Ты мое море. Ты мое небо. Ты мое дерево; моя сосна, и шумишь надо мной, и я Твой ветер, я в Твоих ветвях-волосах, я Твой снег на Твоих ветвях-руках. Ты моя музыка, ведь Ты умеешь играть на всех музыкальных инструментах, на ксилофоне и органе, на гитаре и дудочке-жалейке, на клавесине и сямисене. Как, и на сямисене тоже?! Да, и на сямисене. Ты и на мне играешь, Ты перебираешь пальцами мои худые ребра, Ты вдуваешь мне нежными губами ветер и вьюгу в открытый жадно навстречу Тебе, изголодавшийся по Тебе рот, Ты гладишь меня ладонями по тяжелым медным тарелкам и плитам груди и спины, Ты трогаешь, как пастушонок трогал ту, баснословную арфу, живую душу мою, – Ты играешь всем мною радостный, яркий гимн Солнцу, Луне, звездам, снегам, деревенским печам и сеновалам, длинным, краснотелым, лохматым соснам, ледяным озерам и рекам, ледяному моему миру, в коем мы с Тобой – горячие и живые, и я Твоя горячая арфа, я Твой пылающий, бьющийся в Твоих руках сямисен. Я Твой гудящий всеми стволами под ветром, всеми серебряными трубами, наполненными воздухом и светом и воплями и стенаньями, рыдающий орган, встающий крепостью, железною стеной, защитой яростной и неколебимой между Тобой и всем, что хочет Тебя убить, пожрать, растоптать, выпить. Ты только моя чаша, и пью из Тебя – я. Как я люблю Тебя!
Я хотел кричать о моей любви на весь свет. Но свет глухой. Он оглох навек. Он ничего не слышит. Ему мы не нужны. Как бело и чисто, как печально за окном.
Моя изба. Изба, где Ты была; где Ты еще будешь когда-нибудь; где Ты не будешь уже никогда. Икона в углу. Божья Матерь Казанская. Она чуть раскоса, как Ты. Она похожа на Тебя. Все, все на свете похоже на Тебя.
Пойду принесу дров, растоплю печь. Ты так любила глядеть в печь, на огонь. Он плясал и томился, огонь, он целовал мое лицо, как Ты. Мы сидели вместе у огня, и я сказал, следя пляску огневых лепестков: куда я Тебя за собой тащу, ты молодая, свежая, а мне помирать пора. Ты смолчала. Обняла меня. Поцеловала меня. И я был с Тобой вместе так, как не был с возлюбленной ни один любовник никогда от Сотворенья Мира. Аминь.
Запылает печь в избе. Затоплю печь и в бане. Как ты любила нашу баню! Это все наше. Это все здесь Твое, а Тебя нет. Нет и не будет. Я же Тебя не встречаю. Я так вижу Твое золотое нагое тело в черноте, в сгущенье страшной ревнивой сажи и тайного мрака бани. Ты светишься. Господи, какая же Ты красавица! Я плещу на раскаленные камни полковша, и жар вырывается из каменки, обнимает нас. И мы обнимаем друг друга.
Мы всегда будем обнимать друг друга. Даже когда…
Какая белизна. Белизна и чистота вокруг. И холод, лютый холод. Выйдешь на крыльцо – из ноздрей, изо рта вылетают вихренья пара и тут же застывают, сыплются серебряными искрами. Ночью звезды звенят. Ледяная Нея тоже звенит – скорбно и чисто. Звери нежно ходят в лесах. На снегу их следы, иероглифы. Иероглифы нежности моей к Тебе. Я Твой зверь; я Твой алый Марс над зимней веткой. Я алый шиповник у Тебя во рту, и я Тебе даю его вкусить из открытых, целующих уст моих, как даю Тебе и все сердце мое.
Ты красавица. Грехи Твои отпустятся Тебе. Я Тебе их отпускаю, я.
Ты моя тайная жена; как же я могу жить без Тебя? Я и не живу без Тебя. Я просто, мертвый, сижу перед окном. Я не в силах двинуться. Мы с Тобой прожили тысячу жизней. Зачем нам еще одна?