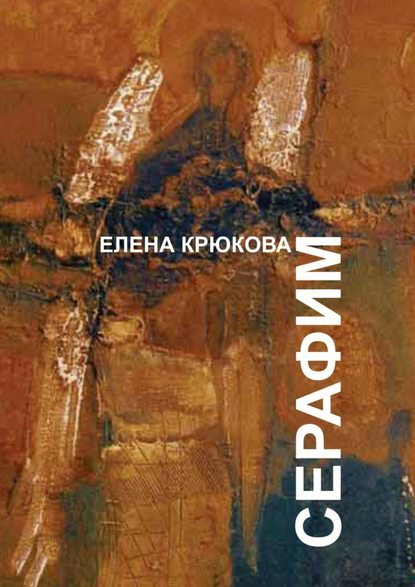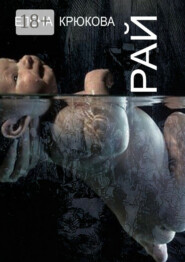По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Серафим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эта церковь была живая. Еще живая.
Бабушка брала маленький веничек – почему-то в углу, при входе, аккуратно так стоял, бабушка звала его почему-то смешно: «голик» – и этим голиком стряхивала налипший мне на валенки снег.
И свои ботики тоже отряхала. И опять благодарно, радостно крестилась.
И входили мы внутрь.
А там, внутри, стоял, как золотая вода в горячем, на огне, сосуде, полный песнопений, пламени и тайной радости, праздник.
Свечи! Золотые, длинные, медовые свечи Сретенья! Как вы ярко горели! Вы мне мою детскую душу – насквозь прожгли.
Может, я священником стал лишь из-за вас, золотые Сретенские свечи.
Низко кланяюсь вам, свечи; бабушке моей покойной; автозаводской той церковке февральской, неубитой, живой.
Праздник пел. Праздник дышал в меня мятным ладаном из медленно качающегося на цепи позолоченного яйца в руке человека, одетого в длинную, белую с золотом, вроде как ночную рубаху. Дьякон махал кадилом, но я не знал тогда, что это кадило. Я просто вдыхал чудесный запах, а вокруг меня пели, и я слышал просто один небесный гул музыки, а слов не слышал, что поют.
– Ангелы поют… Ангельское пение… – шептала умиленно бабушка.
Ее все сморщенное, как печеное райское яблочко, маленькое лицо румянилось, как у девушки. Она заправляла сухими узловатыми пальцами белые пряди под пуховый вытертый платок и снова медленно, важно крестилась.
Я, сквозь пелену светоносной, летяще-радостной музыки – будто белые голуби вокруг меня летали, будто это метель летала и кружилась, но не злая, а добрая, – начинал различать слова:
– Радуйся, Благодатная Богородице Дево… Свободителя душ наших… дарующаго нам воскресение…
Я тыкал бабушку пальцем в бок и тихо, еле слышно спрашивал:
– Баушк, а что такое – воскресение?
Бабушка терпеливо наклонялась ко мне.
Служба вокруг шла, пела, летела, празднично воздевала руки в белоснежных, золотых ризах, сияла, мерцала, вспыхивала небесными и земными огнями.
– Воскреснем все мы, Боречка, – еще тише говорила она мне на ухо.
И развязывала мне под подбородком завязки цигейковой шапки.
Я вздевал выше освобожденную мордочку и уже громче вопрошал:
– А это? Как это? Зачем мы воскреснем? Мы же не умерли!
Служба шла, пела, летела, сверкала, радовалась.
Бабушка сдергивала с меня шапку.
– Прости Господи… забыла с мальчонки шапчонку-то снять… Прости мне, Господи, дуре старой…
– Баушк… ну мы же живые!..
Тогда она наклонялась еще ниже ко мне, совсем низко, одного со мной роста становилась, крохотная старушка, – как девочка, как шестилетка, – и ее губы шуршали, шелестели по моей еще почти младенческой, тоненькой, ребячьей кожице, по нежной, в пушку, детской щеке:
– Мы все умрем.
А голос, голос над нами летел, и сколько раз потом я сам это читал, и сколько раз потом плакал от радости внутри, читая это, вот это:
– Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, – свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля…
И слышал я еще голоса, и кто это пел?.. люди ли, человеки, девочки ли в хоре церковном, или ангелы, что летели на нас, мимо нас, сквозь нас со стен старой заброшенной церквушки, у которой и крест-то над куполом покосился, гнул шею в злющей метели, а кто и когда поправит?.. – неважно, кто это пел, но музыка втекала через уши прямо в душу, и я, малец, не знал еще тогда, почему – свечи, зачем – огни, отчего – эти слова, льющиеся, как мед, как масло:
– Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим… и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но умири во бранех жительство и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче…
А свечи горели, свечи пылали, язычки алые, желтые, медовые тряслись и дрожали, и бежали по легкому сквозняку, будто по вольному степному ветру, свечи воздух возле людских лиц целовали, свечи радовались вместе с людьми, свечи водили хороводы огненные вокруг нас, свечи смеялись от радости с нами!
И я глядел, глядел во все глаза на икону большую, висящую прямо передо мною в притворе: красавица-Мать в светло-розовом хитоне, яркая, как заря, на руках Младенчика держит… и страшно Его Ей передать на руки Старцу, и боязно, а надо… впервые от Себя Его отрывает… а старец-то уж руки протянул!.. и улыбается, и борода его белая, метельная, метелью по ветру летит… и Отец сзади руки к груди прижал, переживает… а вон поодаль – еще старуха стоит, старая, коричневая лицом, как моя бабушка… стоит и, кажется, плачет… и черные складки ее платья шепчут: мы все умрем… мы все умрем…
– Мы все умрем! – крикнул я зачем-то громко, ка всю церковь.
Бабушка меня за руку как дернет!
– Ох ты, горе мое… Да тише…
Мать в розовом, как заря, платье внезапно сделала шаг ко мне с иконы – и сошла, ну да, сошла прямо на пол церкви, вот наступила босою ногой, а нога-то у Нее белая, розовая, как розовая голубка, нога летит, летит голубка, Она идет ко мне летящим шагом, летит ко мне, ко мне, ко…
– …душно тут, и свечи…
– Дайте ему святой водички…
– Да очухался уже… маленький…
Бабушка сидела на церковной скамье, около зарешеченного окна, я сидел у нее на руках, она прижимала меня к себе и сильно встряхивала. Я шире открыл глаза и сказал, языком заплетая:
– Она меня поцеловала!
Бабушка крепче прижала меня к себе и заплакала от радости.
– Сыночек, сыночек мой… Боречка… ласточка…
Мелкие, быстрые поцелуи облепляли мое лицо, как пчелы, как бабочки летние, садились, вспархивали, улетали.
Она меня звала всегда так – не «внучек», а «сыночек».
У бабушки моей трех сыновей на войне убили.
Немцы… фрицы…
При коротком, наотмашь бьющем слове «фриц» мне представлялся почему-то рыбацкий котелок с железными ушами, и в уши ветка продета, и над костром мотается, а в котелке – уха, что ли, варится?.. или – человечина…
«Да ведь и они тоже люди, – говори бабушка, плача, зажигая перед домашней иконой Богородицы лампадку, – это им Гитлер, сучонок вонючий, приказал… А так – они не виноватые, фрицы…»